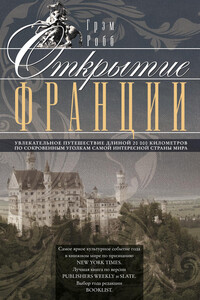— Сынок, — мистер Перельман взял сына под руку. — Не ради меня — сделай это ради мамы.
— Нет, пап, — сказал Джон: он чувствовал, что в его голосе проскальзывает раздражение — отзвук отгремевших боев, отошедших в прошлое мелочных раздоров, и его это сердило. — Я же сказал: я на это не пойду. Разговор окончен.
Отец прогуливал его по длинному, залитому солнцем коридору, они миновали кабинет — за его распахнутой дверью монахиня в белом куколе, который стоял вокруг лица торчком, точно тонкие листы фанеры, что-то писала, над ее головой висела крохотная восковая, аляповато раскрашенная мадонна с младенцем; абсолютно антропоморфные, подумал он.
— Разве это такая уж большая просьба? — сказал мистер Перельман.
— Да нет.
— И вот еще что, — просительно, срывающимся голосом сказал мистер Перельман. — Ты и без меня знаешь — так гигиеничнее.
От огорчения его мощные плечи ссутулились еще больше. На сына он не смотрел, смотрел на точку в нескольких метрах от него — смуглое, мягких очертаний, овальное лицо избороздили морщины, глаза глубоко запавшие, грустные.
— Пап, я же в это вникал, — сказал сын. Ну как ему объяснить? — Доказано, что никакой пользы в этом нет, от этого давно отказались. — Он был на голову выше отца, с более светлой кожей; друг на друга они походили глазами, черными вьющимися волосами и слегка крючковатыми носами. — Задним числом подыскали разумное объяснение и в тридцатые-сороковые это приняло характер повального увлечения.
— Хорошо, хорошо, а я знаю докторов и замечательных докторов, так они своим сыновьям это сделали. Из медицинских соображений; некоторые из них вовсе даже и не евреи. Как бы там ни было, сделай это ради мамы: она не находит себе места.
— Не находит себе места из-за того, что скажут ее друзья.
— Некрасиво так говорить. Правда, некрасиво.
— Да она и в синагогу-то ходит два раза в год: на Рош а-Шона и Йом Кипур.
Мимо них прошуршала еще одна монахиня, сплошь в бело-голубом. Джон бегло улыбнулся ей; когда отец поднял голову, монахиня уже ушла вперед.
— Я готов пойти тебе навстречу, — сказал мистер Перельман. — Можешь сделать это здесь, вовсе не обязательно устраивать брис[1]. Не хочешь — не надо никаких церемоний, проведем все скромно, без шума, только свои.
— Дело не в церемониях, — сказал сын, при всем при том отдавая себе отчет, что некоторую роль играет и церемония, вернее, то отвращение, которую внушает ему эта картина: стылый каменный зал, бородачи в лапсердаках, старик с ножом. — Где это ни устраивай, дикость она и есть дикость.
— Дикость, — возопил отец. — Ты соображаешь, что говоришь?
А в отдельной палате — с массой гиацинтов, роз, горшков с цветами, горкой апельсинов, винограда и персиков на блюде — миссис Перельман придвинулась поближе к невестке.
— Детка, будь умницей! Ему незачем знать. А для нас, для евреев, это имеет большое значение.
Невестка, светлая блондинка, улыбалась — утопая в подушках, качала смуглого младенца на руках и ничего не отвечала.
— Сделай это ради свекра, — сказала миссис Перельман. — Ты же умная девочка, пусть он дурит, тебе-то зачем дурить? И ведь так, уж во всяком случае, гигиеничней.
— Раз он не хочет, я не могу на это пойти, — невестка улыбнулась миссис Перельман; костистое лицо миссис Перельман еще больше осунулось, посуровело, в резком голосе засквозила неприязнь.
— Ты не о себе думай, думай о малыше, помни, ты перед ним в долгу! А врача можно найти и здесь — какая разница?
Но невестка и на это промолчала, только улыбнулась.
— Он упрямый, так хоть ты не упрямься, — сказала миссис Перельман.
Плотную, автоматически закрывающуюся дверь отворили, миссис Перельман обернулась и неожиданно расцвела улыбкой.
— Джон, посмотри, какой он милашка. Вы оба такие молодцы!
— Милашка, — повторил сын, и по его хмурому лицу она поняла: отец ничего не добился.
— Оставляем тебя, детка, — сказала миссис Перельман невестке, наклонилась и мазнула ее губами по щеке, — тебя и моего милашку-внучка.
Перельман тоже попрощался. Малыш спал.
— Джон, мы подождем тебя в машине, — сказала миссис Перельман и вышла, давая ему проститься с женой и сыном.
— Наседала на тебя? — спросил он.
— Сказала: «Будь умницей».
— Старая вредина. Жить не может, чтобы не плести козни.
— Я сказала — без твоего согласия я не могу на это пойти.
— Ты ее здорово отбрила, — сказал он и пожал руку жены.
— Как бы там ни было, ты все равно еврей, — сказала мать, едва машина тронулась с места.
— Знаю, — сказал он. — Знаю, знаю. Чувствовал: он того и гляди расшибется о стену ее непонимания все равно как, ошалевшая летучая мышь.
— И он, он тоже еврей, значит, без этого нельзя.
— Какой он еврей, — сказал сын. — Его мать — христианка.
— Ты знаешь, о чем речь, — сказал отец. — Ты что, хочешь, чтобы он вырос гоем?
— Джон, еврей он всегда еврей.
— Это более гигиенично, вот что важно.
— И ничуть это не более гигиенично.
— Послушай, сын, — сказал отец, — теперь в Америке все так делают, буквально все без исключения, даже гои.
— Раньше делали, — сказал он, — но больше не делают, доказано — это ни к чему. — И усилием воли заставил себя замолчать: знал, какие доводы ни приведи — практика обоснования задним числом, символическое оскопление, — все бесполезно, они ему как с гуся вода, приводить их так же бессмысленно, как пытаться объяснить.