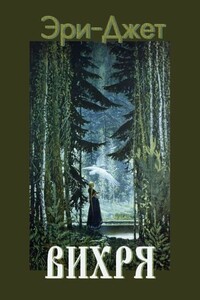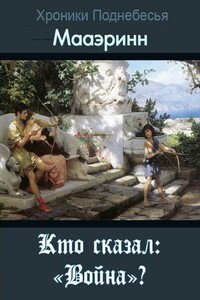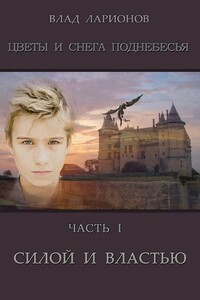Вот она опять — худая, юркая, как хорек; перепачканная мордашка, босые ноги в цыпках, в спутанных рыжих космах — сухие травинки. Вихря, маленький деревенский подкидыш. Нашлась как-то у околицы, да и осталась — у вдовы Харитиньи на сеновале ночует, Харитинья же ее и подкармливает.
«Глупая баба, — думал Богдан. — Своих четверо, вечно голодных, а она еще эту пигалицу ни на что не годную пригрела…»
У самого Богдана своих не было. И чужих почти не осталось. Это раньше Богдан по-иному жил… был он воином прославленным да и женихом из самых видных, чего уж скромничать. И просватали за него не какую-нибудь деревенскую девку, а дочь самого князя — Любушку. «Эх, Богдан! Мне б таких молодцев, как ты, хоть сотню — никто б перед князем Доброгневичем глаз не поднял — весь белый свет мне бы покорился!» — сказал князь. И благословил дочь. Богат тогда был Богдан. И деньгами богат, и дружеской верностью, и жениной любовью. Да только это все давно было — так давно, что и поминать не стоило. С тех пор, вон, и голова поседела, и богатство порастратилось, и слава воинская забылась. Всё забылось, всё обветшало, только цветы на жениной могилке свеженькие раскрылись. Да три холмика рядом травой зеленеют — детки. Как было напророчено — так и вышло: трое сыновей родилось, да ни один десяти лет не прожил.
А соплюху эту рыжую, Вихорку, Богдан давно заприметил: повадилась в его саду яблоки красть. Захарка-садовник все изловить обещался, да не мог. Погонится — а малявка под забор и в крапиву. Поди вытащи её оттуда! Но вот замечать стал Богдан: как девчонка яблоки таскать начала, так они ровно сладше сделались, сочнее да запашистее. А тут вышел, глядит — дерево само к рыжей Вихорке ветви, словно руки, тянет.
— Вихря, эй!
Девчонка вздрогнула пугливо и оглянулась. Глаза выпучила, большущие, как трава, зеленые. «Вот точно такие глазищи», — припомнил Богдан и плюнул под ноги.
— Вихорка, поди-ка сюда.
— А не прибьешь, дядя? А то если бить будешь — так я лучше сбегу. Тебе, старому да толстому, меня в жизнь не догнать.
— Ишь ты, бойкая выискалась. Старый я да толстый… а ну иди, бить не буду. Тыквы пареной с пшеном хочешь?
— Тыквы? — рыжая головенка хитро склонилась к плечу. — А на меду?
— На меду, на меду… это где ж ты мед-то пробовала, босоножка?
— А там, — девчонка махнула рукой в сторону дальнего леса. — Когда еще мамка кормила.
— А теперь твоя мамка где?
— Не знаю… — она вдруг как-то обмякла, губы изогнулись коромыслом, а глаза слезами налились. — Проснулась — и нет ее… не знаю…
Чтобы этот рыжий бесенок плакал? Богдан даже смутился.
— Ну-ну, не реви, пошли лучше тыкву есть.
В горнице было свежо и прохладно. Кухарка уже подала обед и тихонько поодаль ждала, чего еще прикажут.
— Что стоишь столбом? — свел брови Богдан. — Не видишь: гостья у нас. А ну подай ей каши мису, да мёда с маслом. Да молока свежего не забудь, и хлеба ломоть.
Вихря, прячась за хозяйской спиной, тихонько прокралась к столу, юркнула в дальний угол, забралась на лавку и притихла. Богдан подвинул девчонке полную миску горячей каши и вдруг спросил:
— А вот хочешь ли, Вихря, я тебе сказку расскажу? Ну да хочешь-не хочешь, а слушай, пока рот набит.
Задумался Богдан, с чего бы начать, а девчонка во все глаза на него уставилась, ждёт.
— Я тогда не то что теперь был: старый да толстый — скажешь тоже!.. Голова хоть и седая, а в седле-то я крепко держусь! Так вот, был я тогда у князя нашего, Доброгневича, на службе. Конь подо мной ходил добрый… из лука-то я и теперь метко бью, да и палашом рубиться могу — а чего ещё князю надобно? Он в ту пору свару затеял с Миройкой южным — вот и набирал молодцов в войско. До реки мы пешим ходом добирались. Две седмицы шли. Грозное у нас войско было! Да что сила воинская, когда враг твой — солнце палящее да путь нелегкий? Идём, а поклажа к земле тянет, пот глаза застит, кругом сушь, что в пекле… ну так вот — добрались мы до берега речного и лагерем стали. А той землей как раз брат князя нашего правил. Уж не знаю, по дружбе ли, али ещё как, но он ладьи нам дал, чтобы вниз по реке сплавляться. Ладьи-то так себе были — на них только купцам и ходить, да я тогда в судах совсем не смыслил. Погрузились мы в лодки — коней по сходням завели, паруса подняли — и в путь двинулись. Сколько шли по реке, уж и не упомнить… да и упомнишь тут разве, когда вода от прямо жаром горит — не взглянуть! Только ночью и отдых. Но шли довольно — и мы пообвыкнуть успели, и кони фырчать да взбрыкивать перестали… ты ешь, ешь — чего рот разинула?
Ну так вот… раз как встали на берегу лагерем — а по ту пору сквозь лес плыли, ни пешему, ни на конях не пройти — зовет меня сам князь (а я-то уж тогда над полусотней начальствовал) да говорит: нужно, мол, моим молодцам вперёд войска уйти, путь разведать. Приказ важный, правильный — вдруг засада разбойничья или вражья? Не дело всему-то войску в неё угодить.
Так вот и оказались мы на трёх ладьях впереди прочих. В лагере пока передышка: они и коней выгуливают, и суденышки свои утлые латают, где прореха какая. Так что мы далече уж от них ушли. Идут лодки — вода спокойная, только мелкая рябь пробегает. И солнце жарить перестало. Благодать. А вечером мы к берегу пристали, чтобы, значит, ночь скоротать, да утром дальше пуститься. Шатер раскинули, костры, как водится, зажгли, похлебки горячей сварить… глядь — три бочки браги схватили из личных княжеских припасов. Видно, случайно. Ну, мы порядок знали: хмельное — в сторону, и стали на ночлег устраиваться.