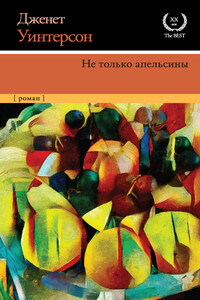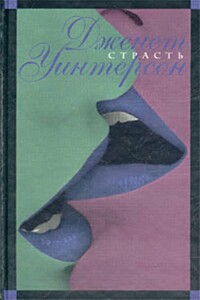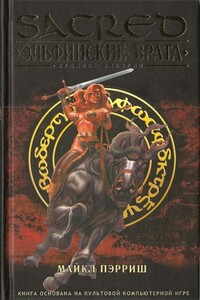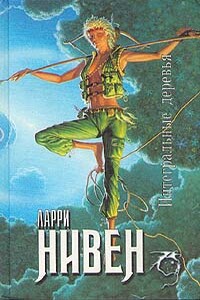Дженет Уинтерсон
Весь мир и другие страны
Мальчиком я строил модели аэропланов. У нас не было денег никуда поехать, иногда было не на что сходить в магазин. По вечерам в гостиной нас было шестеро, шесть человек и шесть ковриков. В обычные дни коврики были выложены унылым прямоугольником, два на три, но в субботу, в Аэропланный вечер, мы брали каждый по коврику и садились скрестив ноги, полные ожидания чудес, как арабские принцы.
Нам предстояло улететь далеко, и мы крепко держались — за свои замасленные коврики, ожидая, когда нас поднимет в воздух волшебное слово. Бомбей. Каир. Париж. Чикаго. Мы говорили Слово по очереди, и тот, кто его произнес, брал мою модель аэроплана, висевшую на потолке, и раскручивал ее все вновь и вновь вокруг громадного надувного глобуса. Чтобы купить этот глобус, мы долго копили жетоны с коробок из-под кукурузных хлопьев, и он был проколот в двух местах. Исландия была залеплена «Селлотейпом»[1], а от Великобритании оставалась лишь резиновая велосипедная заплатка на доспехах Земли.
Я выучил наизусть расписание рейсов из Хитроу в любое место, какое ни назови. Мое дело было объявлять рейсы и желать пассажирам приятного полета. Иногда я называл достопримечательности, над которыми пролетает самолет, и все мы, перегнувшись через камни, смотрели на Монблан или, вытянув шеи, заглядывали за диван, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Скалистые горы.
Примерно на середине пути мама, которая была главным стюардом, покачиваясь шла по проходу, разнося чашки с чаем и ломтики поджаренного хлева, помазанные «Мармайтом»[2]. После этого вперед выходил папа со шляпой, в которой были написанные на бумажках работы по дому на следующую неделю. Мы тянули жребий, и какому-нибудь счастливцу доставалась бумажка с надписью «Дьюти фри»[3] — это значило, что ему ничего не надо делать.
Долетев до места, мы с удовольствием вставали, поразмять ноги, а потом сестра давала нам каждому по повязке. Мы завязывали себе глаза и сидели тихо-тихо, пока один из нас рассказывал о незнакомом месте, в котором мы оказались…
Как жарко, когда выходишь из самолета. Воздух жаркий и застоявшийся, как когда открываешь дверцу сушилки для белья. Нет огней, указывающих, куда идти. Такой будет смерть. Нелегкий проход вместе с людьми, с которыми мы никогда не встречались, — и бегом по гудрону к зданию аэропорта. Внутри, где светло как днем, группа индийцев играет на виолончелях. Откуда они, эти оркестровые беженцы? Неужели это входит в сервис? За ними скачут босоногие мальчишки с потрепанными полосками картона в руках, на каждом из которых написано имя кого-то, кто поважнее нас. Это имена людей, которых умчат в закрытых автомобилях к удобным постелям. Остальные из нас поедут на автобусе.
Багаж. В будущей жизни раем и адом будет багаж и его отсутствие.
Праведники, те, кто знал, что главное — любовь и что земные блага преходящи, невесомо проплывут сквозь указатель выхода, распахнув руки, чтобы обнять друзей, с зубной щеткой в кармане. Стяжатели, те, кто не спал допоздна, копя и копя, как обезумевшие пчелы, обнаружат, что на тот свет с собой взять можно. Юмор в том, что нести все придется самим.
Вот и автобус. У него не то три, не то четыре колеса, и громче двигателя только клаксон. Здесь собрано все человечество. Все-таки у автобуса есть преимущества перед закрытым автомобилем. Я сижу между ящиком с курами и гадалкой. Куры клюют меня за ноги, а гадалка внезапно хватает мою ладонь и смеется мне в лицо,
«Когда вырастешь, научишься летать».
Весь остаток пути меня кусают комары.
Наконец мы подъезжаем к отелю «Таракан». Деревянный пол покрыт пыльными циновками, а у дежурного на щеке порез. Он объясняет, что его ударили ножом, но что мне беспокоиться не о чем. Затем он поит меня чуть теплым чаем и ведет показывать комнату. Окно в ней выходит на мусоросжигатель, и она самая дальняя от уборной. Что ж, во всяком случае не начну заноситься. В темноте и безмолвии слышно, как далеко внизу жизнь продолжается без меня. Ночная смена. Чем они занимаются, эти люди, снующие взад-вперед? Какая у них жизнь? Кого они любят, и почему? Что они будут есть? Где ночевать? Сколько из них доживет до утра? А я доживу?
Сны. Запах ладана и красного жасмина. Плывущая на спине луна чертит белые проходы на мышиного цвета полу. Луна и облака белеют за окном. Сколько раз я это видел? Сколько раз останавливался и глядел, как будто вижу это первый раз в жизни? Может, правда мир каждый день сотворяется заново, только мы не видим этого, нам мешают привычки? Вмерзли в собственные мысли, окаменели в том, что выстроили. Темна ли тундра души? Ночью за плинтусом рожает мышь.
Когда рассказ был окончен, мы сообщали друг другу случаи и обменивались сувенирами. Ночью, ложась спать, мы ощущали утомление путешественников после вечера встречи. Мы совершили то, что совершают астронавты: за несколько часов облетели мир и еще нашли силы об этом рассказать.
Я знал, что уеду, пробьюсь. Не потому, что презирал то, кем я был, а потому, что не знал, кто я. Я ждал, чтобы меня придумали.
Мы поднялись в воздух на аэроплане, пилот и я. Аэроплан был «Сессна»: красивый, современный, кремовый, с синей полосой и носом, утонченным, как морда породистой собаки. Мне хотелось взять его в ладони и сказать: «Молодчина».