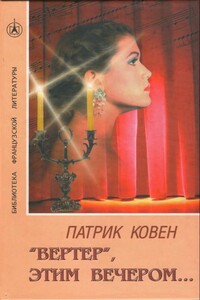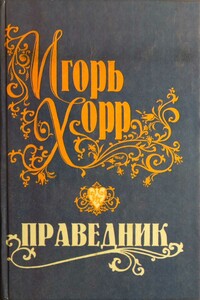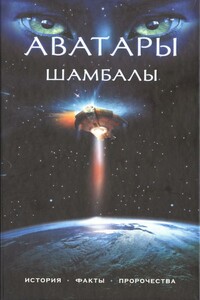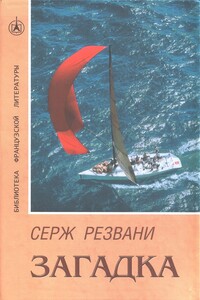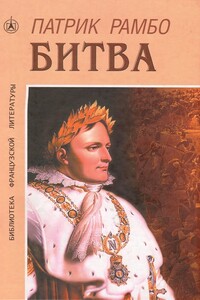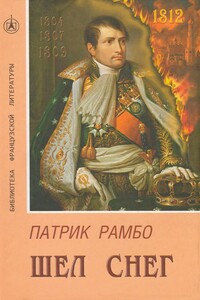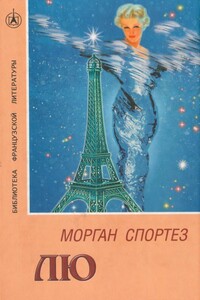Ей пришлось долго бежать по песчаной равнине, что простиралась между холмами Волькерхофа.
Зимняя ночь была светла, и длинная тень плясала под ее ногами. Казалось, вся эта гонка была лишь напрасным преследованием растрепанной призрачной формы — ее ночного двойника, расчлененного неверным резцом ледяной луны. Через пару часов наверняка пойдет снег.
Шарлота зябко поежилась под своим слишком тяжелым пальто. В низине она различила крышу часовни. Линялая ткань неба была истерта до основания. Ей подумалось, что небесный свод — это не что иное, как тронутое молью полотно, в прорехах которого сияет одно-единственное светило, и каждый видимый кусочек его зовется звездой.
Она остановилась и почувствовала, как от напряжения подкашиваются ноги. Теперь она была уже близко, тропинка спускалась вниз правильным изгибом, серебристым полукругом, окаймленным густыми колючими зарослями калины и толстыми стволами лип.
Этот путь она проделывала каждое воскресенье на протяжении всей своей жизни. Она помнила его в нежном вербеновом цвету весны, в палящем зное стремительно улетающего лета, в золоте нескончаемой осени, она все еще слышала, как скрипят колеса коляски по блестящему зимой снегу. Лошадь стригла ушами в морозном воздухе, и из ее ноздрей вырывались клубы пара, густые, словно в дни больших стирок.
Ей казалось, что в царящей вокруг полной тишине слышится прежний звон бубенчиков, свист вожжей, хлеставших лоснящийся круп, детский смех за спиной… Но стоит лишь переступить порог храма — и под сводами воцарится покой… Да, это был совсем иной мир, мир душевного спокойствия, где лишь смена времен года расставляла вехи в ее неторопливой жизни… И вот этой зимней ночью она стоит на старой дороге, сердце бьется где-то в горле, глаза застилает пелена… Былая безмятежность улетучилась… Несмотря на абсолютную неподвижность пейзажа, кажется, что вокруг бушует вихрь.
Она одернула полы пальто и, рыдая, устремилась вниз. Там, в нише древней стены, возле старого каретного сарая, она присоединится к Вертеру.
Он увидал ее в полосе света, пробивавшегося сквозь листву. Ее глаза блестели в лунном свете. Она бросилась к нему с таким знакомым вскриком — нотой, заставившей до предела напрячься ее голосовые связки. Несмотря на свой порыв, она все же едва заметно отстранилась, бросаясь к нему в объятья. Этот жест его всегда раздражал. Объяснялся он просто: она боялась запачкаться в крови, растекшейся по его рубашке. И это было до смешного абсурдно: человек, которого она любит, умирал, а она между тем тряслась, как бы не запачкать свое бархатное зимнее пальто… Она делала так всегда: в Сан-Карло, в «Метрополитен-опере», в «Ковент-Гардене», в Пале Гарнье и вот сегодня вечером в — Манхейме. Это было тем более смешно, что алая жидкость, которой была залита его грудь, запросто отмывалась обыкновенной водой, к тому же, насколько ему было известно, Эмилиана Партони сама не занималась стиркой театральных костюмов. Скорее всего, она вообще никогда ничего не стирала: для этого у нее было предостаточно прислуги… Однако, если бы этим вечером Шарлота испачкалась кровью своего возлюбленного, то это придало бы сцене больше силы и правдоподобия… Не стоило пренебрегать реализмом, ведь уже с первых тактов этой оперы, несмотря на внешнюю слащавость, чувствовалось приближение трагедии… Даже в гимне природе в исполнении хора детишек, открывающем первый акт, уже присутствовала смерть; она таилась в алых лучах первого рассвета, в нежности женщины, испытываемой коварной судьбой… Впрочем, именно так Партони и исполняла свою роль. Благодаря ее манере игры и медному тремоло в голосе, по-матерински нежная девушка уживалась в ней с одной из этих женщин, которым нет прощения у богов.
Он мягко отстранил ее от себя.
— Шарлота, смерть моя близка, так внемли: на погосте…
Он закрыл глаза; отныне его голос звучал самостоятельно, певец был над ним уже не властен. Вертер занимал полагающееся ему место… Два года тому назад один из лондонских критиков написал, что Орландо Натале был самым лучшим Вертером, единственным, кто в наше время мог на оперной сцене воссоздать мертвенно-бледный образ юноши. У других был голос, подходящий диапазон, однако Вертер — это совсем другое. Видимо, чтобы исполнять эту роль, нужно чувствовать глубокое разочарование в жизни, но, в первую очередь, певец должен быть музыкантом.
— И коль страдальца прах не обретет покой в могиле освященной…
Перед тем как взяться за роль, он прослушал все предыдущие записи. Самые великие теноры — от Джильи до Паваротти, Джорджа Тилла до Бьерлинга — исполняли роль Вертера. Но в этой череде звезд был единственный певец, которого он всегда считал на голову выше остальных — Поль Клеман. Впрочем, выше — не совсем подходящее слово, с технической точки зрения его высокие ноты часто затухали в финальных фразах, однако ему был присущ необъяснимый трепет, который передавался слушателям и пробуждал глубокую печаль у потерянных душ. Орландо навел справки о жизни малоизвестного тенора. Дискография того была скромной: он записал лишь «Лючию ди Ламермур» и «Паяца», и в обоих случаях его исполнение было отвратительно… Но единственный раз случилось чудо… Клеман умер в безвестности, в небольшом имении на берегу реки Шер… Больше ничего о жизни певца разузнать не удалось, лишь в одном старом словаре оперных певцов Орландо нашел отрывки интервью, взятых перед войной; казалось, в любовной жизни Клеман потерпел крах. Вертер походил на него, был его товарищем по несчастью, и это было единственное объяснение такого удивительного исполнения роли.