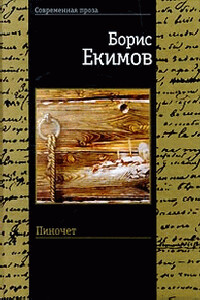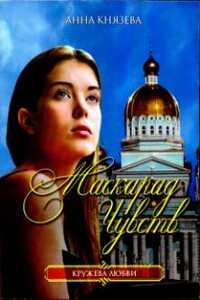По старому казачьему шляху ли, грейдеру, что напрямую ведет к станице Клетской, не ездил я уже несколько лет. Асфальтом хоть и длинней, но надежней. Нынешним летом решил я спрямить, поехал.
Утренняя дорога пустынна, тем более здесь. Встречная машина не прогудит, не замаячит впереди попутная. Поднималось солнце. В низинах истаивал легкий розовый туманец. На буграх сияла, переливаясь, утренняя роса. В открытое окно машины тянул и тянул встречный ток прохладного пахучего ветра. Можно было закрыть глаза, чутьем понимая, что пролетает мимо: горькая ли полынная залежь, хлебное поле или просто пашня, влажная от росы. Пусто было в степи, словно в морских просторах.
Тридцать верст резво отмахал я по ровному набитому грейдеру, свернуть с которого нужно было возле хутора Салтынский, а уж там и до места — рукой подать.
Дремать за рулем я вроде не дремал. А вот нужный поворот пропустил. Обычно едешь, слева на бугре, еще издали, белая водонапорная башня маячит, чуть ниже — строения молочной фермы. Это — знак поворота.
Нынче я проскочил мимо, да, спасибо, еще вовремя опомнился. Сам хутор Салтынский — за бугром, его с дороги не видно. А ферма пупом торчит: водонапорная башня, кирпичные строения под шифером, городьба базов. Словом, не проглядишь. А теперь — ничего нет. Один лишь бугор. Все остальное будто корова языком слизала.
Проехав нужный поворот и все же вернувшись к нему, приглядевшись, увидел я на бугре жалкие остатки молочно-товарной фермы: кучи мусора, следы фундамента. И лишь в одном месте поднимался над землей обломок стены.
Картина эта по нынешним временам знакомая и уже привычная: колхоз развалился или еле дышит, коров ли, свиней, овечек перерезали, а скотьи строения разломали, по кирпичику разобрали и развезли ко дворам. Пригодится в хозяйстве. Все это ныне привычно, но все равно горько. И потому глядел я, охал. А потом и вовсе встал, свернув на обочину.
Несмотря на ранний час, возле остатков стены коровника копошился человек. Видно, торопился свое добрать. Припоздал, бедолага.
Вышел я из машины без цели. Просто поглядеть, недолго побродить на руинах, словно на кладбище, повздыхать, вспоминая былое. На этом хуторе и на этой ферме бывал я прежде.
Из машины вышел, размял занемевшую поясницу, а приглядевшись, немало удивился и пошел напрямую к остаткам стены коровника и к человеку, что возился там. Почудилось мне, что он… Нет, не почудилось: человек действительно не доламывал стену, но поднимал ее. Жалкий остаток старой кирпичной кладки продолжила кладка новая, но уже самородного камня — песчаника. Когда-то, в годы старые, он был в ходу под названием дико́й камень.
Картина была странная: невеликая груда камня, вязкой глины замес, пара саженей новой каменной кладки на глине да столько же старой, кирпичной… А вокруг — великий разор. Остатки фундамента, обломки серого шифера, осколки кирпича, щепа да клочья минеральной ваты, которой утепляют крышу, обрывки черного рубероида. Словно смерч ли, Мамай ли прошел — все смел, оставив лишь мусор.
И на этом пустом бугре, возле остатка стены орудовал мастерком живой человек. Он набрасывал глиняный раствор, ровнял его, а затем клал за камнем камень, подстукивая, чтобы плотнее ложились в глиняную постель.
— Здорово работали… — подойдя ближе, приветствовал я странного трудягу.
Он поднял голову, охотно ответил:
— Слава богу…
Но дела своего не оставил, пока не доложил ряд, камень за камнем. Класть его не больно сподручно: не ровный кирпичик, а дикая булыга. Гляди да прикидывай, как ловчее пристроить.
Человек был вида обычного: ростом невелик, худощав, поверх легкой одежды линялый серый халат, какие прежде дояркам да телятницам выдавали для работы.
— Ломали, ломали… — сказал я, окидывая взглядом разоренье. — Теперь строим.
— Меня не было! — гневно ответил мужик. — Я бы с ружьем засел и никого бы не подпустил! Такое богатство враспыл пустить!
— Да, ферма была хорошая, — согласился я.
— Какая ферма?.. — обиделся он. — Ферма была при мамке-покойнице, при колхозе Буденного, я помню. Плетневые стены да крыша из ча́кана. Это называется ферма. А в совхозе тут настоящий комплекс был. Иди за мной! Гляди… — уложил он последний камень и, оставив работу, быстро пошел.
С трудом поспевал я за своим провожатым.
— Я здесь вылупился и возрос возле коров, — объяснял он на ходу. — С мамкой-покойницей, она всю жизнь при скотине. И я отсюда не выводился. Помогал, чистил, доил. Плетни были да заба́ты. Соломы и той не досыта. Зимой не доили. Весной на веревках тянули коров. Вот это ферма была. А уж потом, при совхозе, строили да строили… Все по науке. Гляди сюда! Вот она, вот тут была родилка! — широко развел руками. — И называлась как у людей — родилка. А тут, рядом, помещение для теляток. У них — теплочко. Обогрев работал да горели лампы. Где они, эти лампы?! — гневно вопросил он. — Не с ружьем, с пулеметом бы засел, кабы знать… Из больницы бы убежал и засел! Никого бы не подпустил! Акционеры! Хозяева! Умом рухнуться надо! Все порушить! — кричал он в голос, и яростным темным огнем горели глаза его. — Гляди сюда! — звал он меня далее.