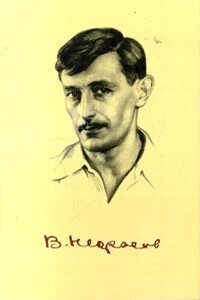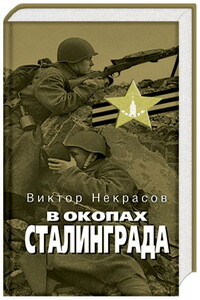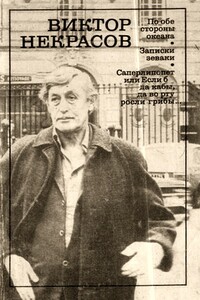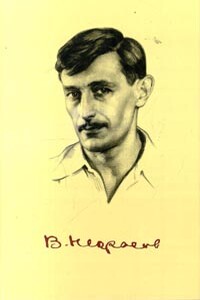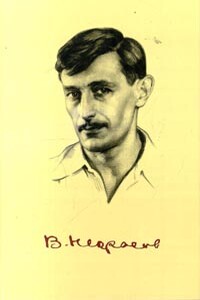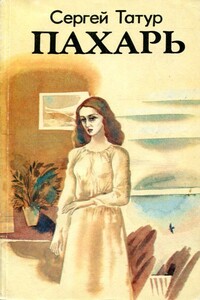Трамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненой рукой предпочел идти с вокзала пешком. День был солнечный, яркий, и после шести дней тряски в душном эшелоне пройтись по улице было даже приятно.
Дойдя до Владимирской, Николай почувствовал легкое головокружение – он отвык от ходьбы – и присел на ступеньки возле аптеки.
Напротив, через улицу, под козырьком из фанерного листа бойко торговал мороженым и водами веселый, громогласный продавец. Покупатели то и дело подходили к нему.
Николай, посидев, тоже подошел. Продавец дружески подмигнул, указывая глазами на подвязанную к лангетке руку Николая.
– С фронта небось, товарищ капитан?
Николай кивнул головой.
– Может, тогда сто грамм прикажете?
– Нет, не надо.
– А то хорошая, «Московская»…
– Нет, не надо, – ответил Николай, чувствуя, что после третьего предложения он уже не сможет отказаться.
– Напрасно, товарищ капитан, ей-богу напрасно. В вашем возрасте я не отказывался.
Продавец был явно расположен разговаривать, но Николай выпил свой стакан воды, расплатился и пошел дальше.
Возле шестиэтажного углового дома Николай остановился. Закурил. Дом был сожжен. Сквозь пустую витрину молочного магазина – еще вывеска сохранилась – видны были груды обгорелого кирпича и на них две застывшие друг против друга кошки – черная и рыжая.
«Фу ты, кошки…» – подумал Николай и быстро, чтоб они не перебежали дорогу, свернул за угол.
Соседний с угловым, двадцать четвертый номер, тоже был сожжен. На стене у входа еще виднелись надписи, сделанные мелом. Из них только две можно было разобрать; «А. Вайнтрауб живет на М. Васильковской, 16, кв. 3» и «Гуреевы – Жилянская, 6». Остальные за год стерлись.
До войны Вайнтраубы жили в пятнадцатой квартире. Николай их хорошо помнил: муж, жена и восьмилетний мальчик Жора. В обеденный час мамаша высовывалась из окна и кричала на весь двор: «Жора, Жо-ора!» Это длилось очень долго, так как Жора никогда не слышал, а когда слышал – убегал на задний двор. Гуреевых Николай не помнил.
Некоторое время Николай стоял перед домом и, задрав голову, смотрел на пятый этаж. Маленький тополь, росший из трещины балкона, за эти три года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь окна было видно небо и изогнутые железные балки.
Из ворот вышла женщина с корзинкой и торопливо пошла вниз по улице.
«Флигель, вероятно, цел», – подумал Николай и вошел в ворота. Первый флигель был сожжен, второй сохранился. Через весь двор была протянута веревка, на ней сохло белье, а рядом на табуретке сидела старушка и чистила картошку. Николай подошел и спросил довольно спокойно:
– Простите, бабушка, вы и до войны жили в этом доме?
Бабушка вздрогнула и испуганно посмотрела на Николая.
– А?
– Я спрашиваю: вы и до войны жили в этом доме?
– В этом доме? Нет, нет… – Она с испугом смотрела на его перевязанную руку. – Нет, мы в восемнадцатом номере жили. Здесь с ноября только.
– Я о жильцах одних хотел узнать, – сказал Николай и, заметив, что старушка плохо слышит, повторил погромче: – О жильцах спросить хотел…
– Не знаю, не знаю… – Старушка замотала головой. – Мы здесь только с ноября живем, как наши пришли.
Она тревожно глянула на развешанное белье, потом на Николая, словно проверяя, не взял ли он чего-нибудь.
– Не знаю, не знаю… Мы здесь с ноября только живем… – в третий раз сказала она и опять принялась за картошку.
– Вы кого ищете? – раздался за спиной Николая женский голос.
Николай обернулся. Невысокая, очень худая женщина, в калошах на босу ногу, с мусорным ведром в руке, внимательно смотрела на него.
– Вы из какой квартиры? – спросила она и поставила ведро на землю.
– Из семнадцатой, – ответил Николай.
– Митясов ваша фамилия?
– Митясов…
Женщина серьезно, без улыбки смотрела на него.
– Ой-ой-ой, как вы изменились! Такой молоденький были, а теперь… – Она, как и все, посмотрела на его повязку. – Ранены? Да?
– Как видите.
Женщина покачала головой.
– Ужасно как изменились… Просто ужасно, – она сочувственно покачала головой. – Вот вы меня не узнаете, – Николай действительно никак не мог ее припомнить, – а я сразу узнала. У вас, я помню, еще собака была.
– Была. Рыжик. Щенок. Ему и года еще не было.
– И ваш сынишка прогуливал ее еще в этом дворе.
– Нет, у нас детей не было. Это не наш сынишка.
– Разве не было? А мне казалось, что был.
– Нет, не было. Это соседский, Смирновых…
Они помолчали. Николай ждал, что женщина еще что-нибудь скажет, но она молчала и только сочувственно, очевидно уже машинально, качала головой.
Подошел мальчик лет восьми и, раскрыв рот, стал смотреть на Николая.
– А про Шуру вы ничего не знаете? – спросил Николай, не глядя.
Женщина зачем-то развязала и опять завязала платок на голове.
– Они, кажется, при немцах оставались? – спросила она.
– Оставались. У нее мать больная была.
Женщина почему-то вдруг оживилась.
– Да-да. Старуха умерла. У нее, кажется, рак был.
– А Шура?
– Шура? – Женщина задумалась и опять поправила на голове платок. – Шура сейчас здесь не живет. Она на Жилянской, кажется, живет.
– Не… В тридцать восьмом номере вовсе, – сказал мальчик и опять раскрыл рот.
Николай пристально посмотрел на него.