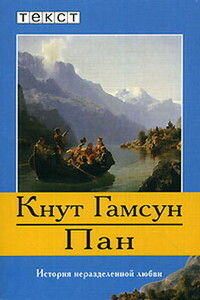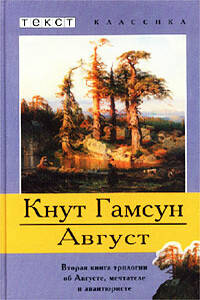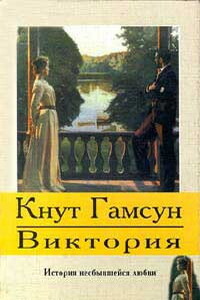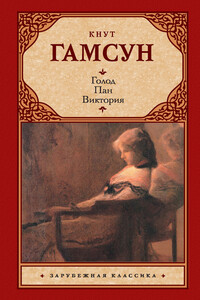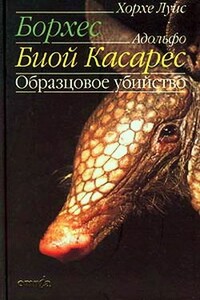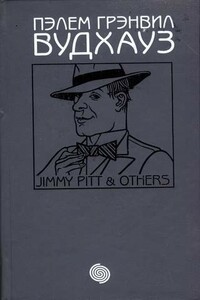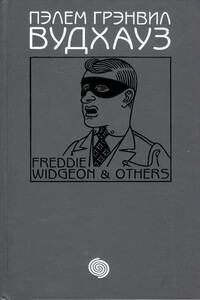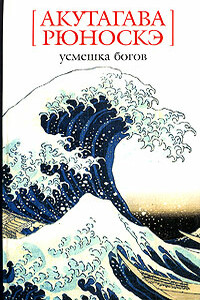Всё лето 1887 года работал я в Америке, в долине реки Красной, в одном из отделений огромной фермы Дальрумпль. Кроме меня, там было ещё два других норвежца, швед, десять-двенадцать ирландцев и несколько американцев. Нас было всего только двадцать человек в нашем отделении — крупица всей многосотенной массы рабочих этой фермы.
Прерия лежала зелёно-жёлтая и безконечная, как море. Ни одного здания не было видно в прерии, за исключением наших собственных конюшен и сараев; ни одного дерева, ни одного куста не росло там, лишь пшеница и трава, пшеница и трава, насколько глаз достать мог. Там не было совсем цветов, только кое-где в пшенице попадались жёлтые гроздья дикой горчицы, единственного цветка прерий. Это растение было запрещено законом; мы вырывали его с корнями, везли домой, сушили и жгли.
И ни одной птицы не пролетало, никакой жизни не было видно, только пшеница волновалась под ветром, а из звуков мы слышали только вечное стрекотанье миллионов стрекоз в пшенице — единственное пение прерий.
Мы томились по какой-нибудь тени. Когда в полдень приезжала к нам телега с обедом, мы ложились на живот под лошадьми, чтоб иметь хоть маленькую тень на время еды. Солнце часто бывало жестоким. Мы ходили в шляпах, рубашках, панталонах и башмаках, это было всё, и меньше этого не могло быть, чтоб нам не быть сожженными. Если, например, за работой продырявить рубашку, солнце сжигало это место, и потом вздувался пузырь на коже.
Во время жатвы наш рабочий день достигал шестнадцати часов. Десять косилок ездило по полю друг за другом, день за днём. Выкосив одну площадку, мы ехали на другую площадку и принимались за неё. И таким же точно образом дальше, а десять человек шли сзади нас и собирали снопы пшеницы в копны. И высоко на лошади, с револьвером в руках, устремив глаза нам в пальцы, сидел надсмотрщик и наблюдал за нами. Он замучивал своих двух лошадей каждый день. Случись что-нибудь где, сломайся, например, машина, — надсмотрщик бывал тут как тут, поправлял машину или приказывал отправить её домой. Он мог быть очень далеко, но, заметив безпорядок, скакал туда, и так как никаких дорог не было, то он скакал все дни в густой пшенице, взмыливая лошадей.
В сентябре и октябре днём бывала жестокая жара, а ночью сильный холод. Нам часто приходилось очень зябнуть. И кроме этого наш сон был очень недолог; нас подымали в три часа утра, совсем ещё в сумерках. И только когда мы, накормив лошадей и себя самих, проезжали длинную дорогу к месту работы, наступал, наконец, день, и мы могли видеть, что делаем. Мы зажигали копну пшеницы, чтоб растопить масло для смазки машин, и тут же слегка обогревались сами. Но через несколько минут опять к машинам.
Мы никогда не имели праздников, воскресенье было как понедельник. Но в дождливое время мы не могли работать, и тогда мы лежали. Играли мы в «казино», разговаривали друг с другом и спали.
Был там один ирландец, удивлявший меня сначала, и Бог его знает, кто он был по происхождению. Лёжа в дождь, он всегда читал романы, привезённые с собой. Он был высокий и красивый, лет тридцати шести, и говорил изысканным языком. Он мог также говорить по-немецки.
Он пришёл на ферму в шёлковой рубашке и во время всей работы оставался в шёлковой рубашке. Сносив одну, он надевал другую. Он не был ловким работником; ему не хватало настоящей сноровки в работе, но он был замечательным человеком.
Эванс было имя его.
Оба норвежца ничего собой не представляли. Один из них, халлендиец, сбежал, не выдержав такой работы; другой выдержал — недаром он был из Вальдреса.
Во время молотьбы мы всё выискивали место подальше от паровой машины, которая молола. Пыль, мякину и песок несло, как метель, из всех отверстий, со всех лопат машины. Я был несколько дней в огне, пока не попросил надсмотрщика дать мне какое-либо другое место, — и моя просьба была удовлетворена. Надсмотрщик предоставил мне выдающееся место в поле: быть при нагрузке возов. Он не забывал никогда, что я оказал ему некоторую любезность в самом начале.
Это случилось так.
Моя куртка была форменная, с блестящими пуговицами. Она сохранилась у меня со времени службы кондуктором на конке в Чикаго. Эта куртка и эти роскошные пуговицы пленили надсмотрщика; он был чистым ребёнком перед формой, и здесь не было ни на ком формы в прерии. Я сказал ему однажды, что он может взять себе куртку. Он хотел заплатить мне за неё, я только должен был сказать, сколько хочу получить; но, когда я ему её подарил, он объявил, что очень благодарен мне. Когда жатва кончилась, он в отплату подарил мне другую, хорошую куртку, видя, что у меня нет никакой.
Из дней моей работы при нагрузке возов я вспоминаю один эпизод.
Пришёл швед за возом. На нём были высокие сапоги с голенищами, куда засунуты были штаны. Мы начали укладку. Он был настоящим рубанком в работе, и я с трудом мог сдерживать его. Он спешил всё больше и больше, и так как это уже начинало меня сердить, то я тоже заработал вовсю.
В каждой копне пшеницы было восемь снопов, и обычно брали подавать на воз по одному снопу, — теперь взял я четыре. Я завалил шведа снопами, покрыл его снопами. И вот как раз в одном из снопов, которые я подавал шведу, оказалась змея. Она скользнула к нему в голенище. Я не видел ничего этого, пока вдруг не услышал крика ужаса, и швед не полетел с воза вниз с тёмно-пятнистой змеей в голенище. Однако она не ужалила его и при падении на землю выскочила из сапога и быстро, как молния, скрылась в поле. Мы погнались за ней с вилами, но не нашли её. Оба мула, которыми был запряжён воз, стояли в трепете.