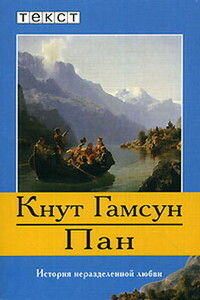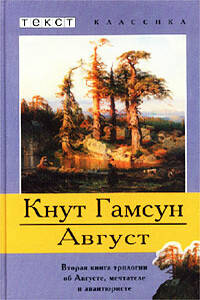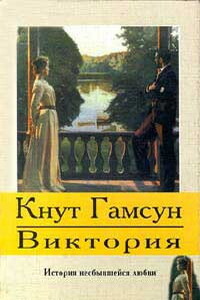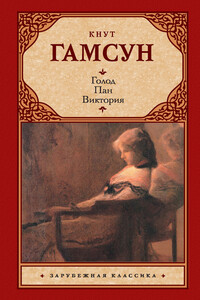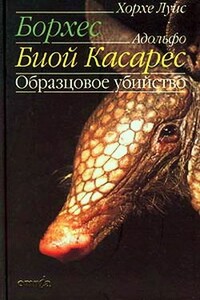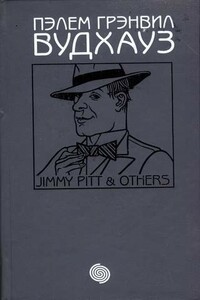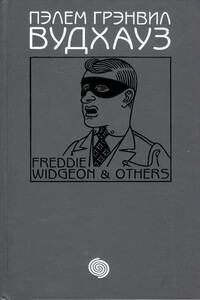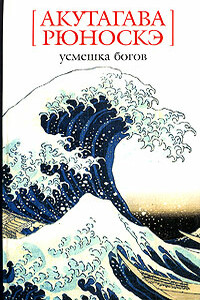Год наверняка будет ягодный. Брусника, голубика, морошка. Правда, ягодами сыт не будешь, что и говорить. Но они радуют сердце и тешат глаз. И если человек томим голодом и жаждой, они могут осве жить его.
Вот о чем я думал вчера вечером.
До того, как поспеют осенние, поздние ягоды, пройдет месяца два, а то и три, мне это хорошо известно. H о не одними ягодами красна земля. Весной и летом ягоды только зацветают; зато есть колокольчики и лядвенец, есть глубокие, безветренные леса, есть тишина и аромат деревьев. Будто дальний шепот речных струй доносится с неба; нет на свете звука более протяжного. И когда дрозд заводит свою песню, одному только богу ведомо, до каких высот поднимается птичий голос; достигнув вершины, голос вдруг отвесно падает вниз, словно алма зом прочерчивая свой путь; и вот уже звучат, снова зву чат на самых низких нотах нежные и сладостные пере ливы. H а взморье кипит своя жизнь, там снуют чисти ки, вороны и крачки; трясогузка вылетела искать корм, она летит ры в ками, размашисто, стремительно, легко, по том садится на изгородь и тоже поет-заливается. А когда солнце близится к закату, гагара уныло выкрикивает свое приветствие с высокогорного озера. Это последняя песня дня. Затем остается только кузнечик. Ну, об этом сказать нечего – глазом его не увидишь, и проку в нем никакого. Притаился и знай себе наканифоливает.
Я сидел и думал, что и лето дарит страннику свои радости, стало быть, незачем дожидаться осени.
Теперь же я думаю о другом, что вот я сижу и пишу спокойные слова о всяких безобидных делах, – будто мне никогда не придется писать о событиях бурных и грозных. Но это такая уловка – я перенял ее у человека из южного полушария, у мексиканца Роу. Края его необъятной шляпы были сплошь унизаны медными по брякушками, почему я, собственно, и запомнил Роу, а всего лучше запомнил я, как он спокойно рассказывал о своем первом убийстве. Была у меня когда-то девушка по имени Мария, – так рассказывал Роу со смирен ным видом, – было ей в ту пору всего шестнадцать лет, а мне девятнадцать. И у нее были такие крохотные ручки, что когда она благодарила меня за что-нибудь или здоровалась со мной, мне казалось, что в ладони у меня зажаты два тоненьких пальчика, не больше того. Однажды вечером наш хозяин позвал ее с поля к себе и велел что-то сшить для него. Никто не мог этому поме шать, и на другой день он снова вызвал ее за тем же. Так продолжалось несколько недель, потом все кончи лось.
Семь месяцев спустя Мария умерла. Мы засыпали ее землей, и маленькие ручки мы тоже засыпали землей. Тогда я пошел к Инесу, брату Марии, и сказал: «Завтра в шесть утра наш хозяин один едет в город». – «Знаю», – ответил Инес. «Дай мне твою винтовку, я пристрелю его завтра утром», – сказал я. «Винтовка мне и самому понадобится», – сказал он. Потом мы заговорили о другом, об осени и о новом колодце, что мы вырыли, а уходя, я снял со стены винтовку и унес ее. Но Инес живо схватился и крикнул подождать его. Мы сели, потолковали о том, о сем. Инес забрал у меня винтовку и вернулся домой. Поутру я стоял у ворот, чтобы открыть их хозяину, а Инес залег рядом в кустах. Я ему сказал: «Ступай отсюда, не то мы будем двое против одного». «У него пистолеты за поясом, а у тебя что?» – спросил Инес. «У меня ничего, – ответил я, – но зато у меня в руке свинчатка, а от свинчатки не бы вает шума». Инес поглядел на свинчатку, подумал, кив нул и ушел. А тут подъехал верхом наш хозяин, он был седой и старый, лет шестьдесят, не меньше. «Отвори ворота!» – приказал он. Я не отворил. Он, наверно, подумал, что я рехнулся. Он вытянул меня кнутом, но я на это ноль внимания. Тогда он спешился, решил сам открыть ворота. Тут я нанес ему первый удар. Удар пришелся над глазом и пробил дыру в черепе. «О!» – простонал он и упал. Я сказал ему несколько слов, он ничего не понимал, я ударил его еще раз, и он умер. В кармане у него было много денег, я взял немножко, сколько мне надо было на дорогу, вскочил в седло и ускакал. Когда я проезжал мимо, Инес стоял у дверей. «До границы три с половиной дня пути», – сказал он.
Так рассказал об этом случае Роу, а кончив, пре спокойно огляделся.
Я не собираюсь рассказывать об убийстве, я расска жу о радостях и страданиях, о любви. А любовь – она бурная и грозная, как убийство.
Сейчас все леса зеленые, так думал я сегодня утром, пока одевался. Гляди, как тает снег в горах, и скоти на рвется из хлева на волю, и в людских жилищах раскрыты настежь все окна. Я распахиваю рубашку, пусть меня обдувает ветер, я вижу, как разгораются звезды и чувствую восторг мятежа в своей душе, о, этот миг от носит меня на много лет назад, когда я был моложе и неистовее, чем сейчас. Где-нибудь, то ли к востоку, то ли к западу есть, быть может, такой лес, где старику живется привольно, как молодому, – вот туда я и пойду.
Чередуются дождь, и солнце, и ветер; я иду уже мно го дней, пока еще слишком холодно, чтобы ночевать в лесу, но я без труда нахожу приют в крестьянских дво рах. Один человек удивляется, что я хожу и хожу без всякого дела, должно быть, я не тот, за кого себя выдаю, и просто хочу прославиться вроде поэта Вергеланна. Этот человек не знает моих планов, не знает, что я дер жу путь к знакомым местам, где живут люди, которых мне хотелось бы повидать. Но ему не откажешь в сообразительности, и я невольно киваю в знак согласия. Как много лицедейства заложено в нас: всякому лестно, когда его принимают за персону более значительную, чем он есть. Но приходят хозяйка с дочерью и преры вают нашу беседу обычной добродушной болтовней; ты не думай, он вовсе не попрошайка, говорят женщины, он заплатил за ужин. Тут я вновь проявляю извечную слабость характера, я оставляю их слова без ответа, а когда этот человек навешивает на меня еще больше грехов, я и его слова оставляю без ответа. Мы трое, люди чувства, одерживаем победу над его разумом, ему приходится сказать, что он просто пошутил, неужто мы не понимаем шуток! В этом дворе я провел целые сутки, хорошенько смазал свои башмаки и привел в по рядок свое платье.