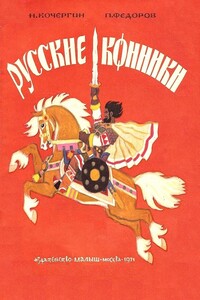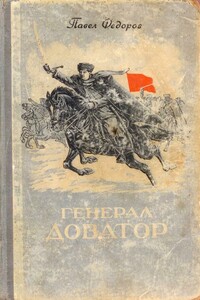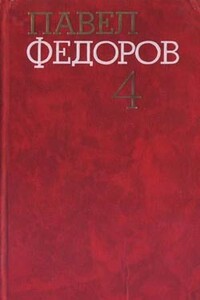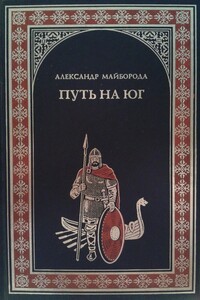В день какого-то католического праздника, обозначенного в старом календаре особыми красочными буквами, в сентябре 1940 года, Стася Седлецкая, жена местного лавочника села Вулько-Гусарское, что находится в Западной Белоруссии, у самой польской границы, высунулась в окно и крикнула сидевшему на крыльце мужу:
— Олесь, ты все-таки пойдешь сегодня в костел или нет?
— Я все-таки не пойду в костел. Возьми детей и ступай, если тебе так хочется.
— Как же может не захотеться в такой день?
Стася гордо встряхнула головой, рассыпала на плечах густые каштановые волосы и вызывающе посмотрела на сидящего рядом с мужем председателя Совета Ивана Магницкого. Щуря на солнце большие коричневые глаза, она навязчиво переспросила:
— Почему мне не хотеть идти в костел? Может, пан комиссар Магницкий запретит мне молиться?
— С чего это вы взяли, Стася? Да и какой из меня пан?
— А Советы скоро всем запретят молиться, — сказал только что подошедший бывший староста при панской власти — высокий большеносый поляк Юзеф Михальский.
— Большевики никому не запрещают молиться, — возразил Магницкий. Ему захотелось покрепче отчитать этого панского выродка, но его перебила Стася Седлецкая:
— Если они вздумают запретить, так я не очень-то их послушаюсь. Самому папе пожалуюсь…
— Ступай молись на здоровье и не трещи тут, как сорока, — повернув голову, властно проговорил ее муж Олесь Седлецкий. При этом концы его усов дрогнули и зашевелились от едва сдерживаемого гнева.
Седлецкий сегодня с утра был не в духе. Магницкий принес ему очередной налоговый лист. За лавочку надо было платить солидную сумму, а торговлишка шла не бойко. В Гуличи, районный центр, Советы навезли столько товаров, что даже складывать некуда. Спешно начали строить торговые помещения и лабазы.
Юзеф Михальский предлагает заняться контрабандой. Вчера познакомил с одним недавно прибывшим из Гродно человеком. Но человек этот, по мнению Олеся, очень подозрительный: одет как монах, да и интересуется больше новой властью, настроением населения, чем коммерцией… А политика вовсе не его, Олеся, дело. Разумеется, при случае он не прочь послушать хорошую политику, особенно если она может способствовать развитию коммерции. Но политика, связанная с контрабандой, не для Олеся Седлецкого. Не в его характере рисковать башкой. Он привык к тихой семейной жизни. У него жена и две дочери, одна из них уже вдова, а другая — невеста. Вот она убирается в доме и поет, как жаворонок. Ей все нипочем! Погоди, что такое она поет?
Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
И на Тихом океане
Свой закончили поход.
Из распахнутого окна доносился чистый девичий голос. Перемешивая русские слова с польскими, Галина, подражая пограничникам ближайшей заставы, пела сочным грудным голосом. Песня оборвалась, послышался задорный девичий смех и грозный окрик матери.
— У тебя, Олесь, дочка в красные, что ли, собирается — все время солдатские песни напевает? — язвительно замечает Михальский. — Воевод-то пока еще не всех разогнали, подождите трошки…
Юзеф Михальский сорвал торчащую у крыльца верхушку высохшей полыни и, разминая, зажал в горсть. В лицо Олеся Седлецкого ударил горький запах полынной пыли. Запах этот, казалось, еще больше растравил охваченную горечью душу. Хмуро покосившись на скрюченный нос бывшего старосты, Олесь дернул правый ус книзу и, не скрывая злости, проговорил:
— Брось, Юзеф, эту пакость ворошить! Не труси полынь… Смотри, глаза засоришь и себе и нам…
— Наши глаза давно засорены. Новые стали петь песни в Августовских лесах.
Михальский разжал ладонь, подул на руки.
— Советы же костелов не закрыли, а почему ты их песни хочешь запретить? — не без иронии заметил Иван Магницкий и, улыбнувшись из-под коротко остриженных усов, показал белые крепкие зубы.
Ему никто не ответил.
Юзеф Михальский побаивался этого высокого, плечистого, хотя и спокойного по характеру плотогона, работавшего до прихода Красной Армии на сплавном канале у помещика Гурского, в имении которого теперь открылась школа.
Олесю Седлецкому не хотелось вступать в спор. Голова его была занята мыслями о младшей дочери, красавице Галинке. Неспроста повадился в его лавку этот чернобровый советский офицер-артиллерист из бетонных укреплений, которых понастроили по всей границе. Приходит и покупает вонючие немецкие сигареты, как будто у Советов нет отличных папирос! Или же закупил в течение одного месяца две дюжины зубных щеток и — о матка бозка! — столько же паршивой ваксы, которую вот уже три года никто не покупал. А Галинка посмеивается и, когда разговор заходит об этом артиллеристе, так краснеет, словно ее по щекам ладошками нашлепали. Начинает покупки завертывать, а сама с этого офицера глаз не спускает и жмурится, как тот котенок, когда его по шейке гладят.
Юзеф Михальский сообщил по секрету Олесю, что видел Галинку с русским офицером на канале. Сидели под черемухой… Юзеф, спрятавшись в кустах, слышал: сначала песню разучивали, как надо "воевод разгонять", а потом… принялись целоваться…
"Ах ты, матка бозка! — мысленно восклицает Олесь и сердито накручивает на палец черный, начинающий седеть ус. — Если об этом узнает жена, вот лихо начнется!" А Юзеф Михальский грозится ксендзу рассказать. За сына своего метит Галинку взять. Хватает за горло мертвой хваткой. Контрабанду предлагает завести и со свадьбой торопит. А какая тут свадьба, когда Галинка о его Владиславе и слышать не хочет! Как тут быть? Раньше выдрал бы хорошенько за косы, да и к ксендзу, а теперь Советы пришли… Нельзя даже собственного ребенка поучить. Иван Магницкий первый поймает за руку.