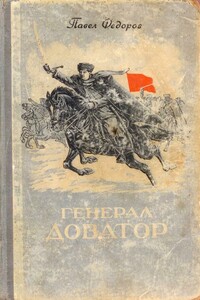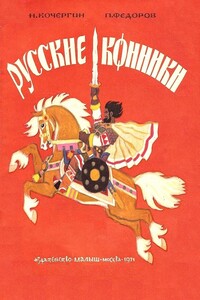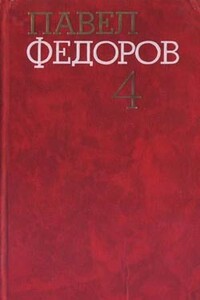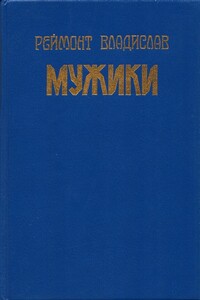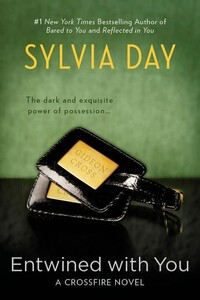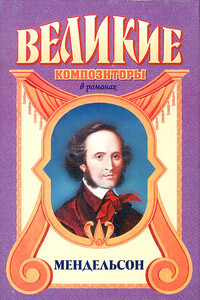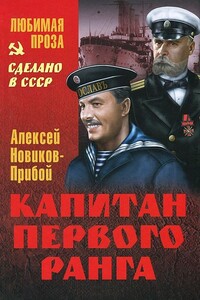Над серой, унылой степью сплошной чередой бегут сумрачные свинцовые тучи, порой низко опускаясь к грязной, разбитой колесами дороге. Мохноногая лошаденка, с репьями в длинном хвосте, цепко переступая раскованными копытами, с трудом вытаскивает из глубокой колдобины тяжело нагруженную телегу, в которой сидят какие-то серые, нахохленные люди. Колеса скрипят и вязнут в грязи по самую ступицу.
Всю ночь лил тягучий обкладной дождь и только под утро стих. Холодно. Пронзительный степняк треплет некошеные травы и низко гнет верхушки к земле, заунывно посвистывает сухими дудками. Извилистая дорога далеко убегает в степь. Коренастый, с кривыми ногами возчик-башкир в коричневом армяке, подпоясанном раскисшим сыромятным ремнем, часто поднимая с морщинистого лба старенький лисий малахай, устало шагает рядом с телегой. На крутых изволоках он берется за наклеску и помогает изнуренной лошади, а если она приостанавливается, возчик выхватывает из-за пояса кистистый кнут, остервенело хлещет по взъерошенному ковылю, кричит, вытаращив раскосые глаза:
– Па-аше-ел! Тащи-и! Айда! Перед давай, а то на махан пущу!
Взмыленная лошаденка, всхрапывая распаренными ноздрями, напрягая последние силенки, тащит. Возчик машет кнутом, щелкает, покрикивает:
– Айда! Пошел!
Хлюпает под колесами грязь, скрипит ветхая сбруя, исступленно орет башкир, а идущие впереди этапа конвойные даже не оглядываются.
– Ох шайтан дорога, ох халеррра!
Визгливый голос возчика рвет сумрачную тишину и далеко летит окрест.
Сидящие в телеге люди в серых приплюснутых шапочках, склонив головы, с трудом преодолевают дремоту и зябко кутаются в серые, промокшие тюремные бушлаты. Это больные с этапа. Они продрогли на осеннем ветру и совсем равнодушны к выкрикам возчика. Тоненько и жалко подвывает в ковыле тугой ветер. Словно не успевая за бегущими тучами, степь лениво плывет назад. Тускло волнуется туманное марево, застилая далекий горизонт. Впереди маячит на коне старший конвоя, грязно вьется в пожелтевшей траве черный шлях и пропадает в степной дали.
Едут. В задке телеги, в клочках измятого сена торчат, как собачьи уши, уголки холщовых мешков. На концах плохо обтесанных дрог привязаны забрызганные грязью чемоданы с разного вида замками, деревянные сундучки, баульчики. Когда колеса наезжают на кочки, вся эта кладь вздрагивает, дребезжит и трется о боковые наклески. Этап движется медленно. Некоторые арестанты закованы в кандалы. Сбоку этого печального шествия, верхом на крупном, сытом коне рыжей масти, едет начальник конвоя старший урядник Кузьма Катауров. Он из станицы Айбурлинской. Она расположена неподалеку от Шиханской. Катауров хорошо знает Петра Лигостаева и его дочь Марину. На голове урядника мохнатая казачья папаха. Короткая шея аккуратно замотана желтым с голубыми полосками башлыком, конец которого плотно прижат белой лосевой портупеей – признак того, что владелец ее служил когда-то в атаманском полку. Шашка у него длинная, в потертых ножнах – старый, много раз побывавший в деле дедовский палаш. С правой стороны, поверх кобуры, висит тяжелая, тоже видавшая виды нагайка, сплетенная из самых мельчайших ремешков. Начальник конвоя зорко поглядывает на тихо шагающих арестантов и солдат-конвоиров. Его конь, привыкший к путевому режиму, идет спокойным, размеренным шагом, плавно покачивая урядника в казачьем седле, как в зыбке. Катауров иногда помурлычет песню, иной раз даже подремлет, а чаще всего, посапывая багровым, когда-то обмороженным носом, думает. Размышления его не слишком сложны.
«Служу не по нужде, а по вольной воле, – думает Кузьма Романыч. – Служу не кому-нибудь, а самому государю императору и престол от разных ворогов охраняю. Как-никак, а это для нас честь… В церковь хожу не с трехкопеечной свечкой… Не грешно и медали показать – горбом заслуженные. И сыны… Старшой на действительной, в гвардии, пятьсотрублевого коня ему справил – на удивление всем есаулам. Второй нынешний год в лагерь ходил, и тоже на каком коне! Третий – наследничек, Никанорушка, – такой вымахал, что все девки начинают заглядываться. Не токмо на сына заглядываются, а и на хозяйство. Снохи-то будто лебедушки. И дом ведут, и себя блюдут, не то что дочь Петьки Лигостаева – от венца к киргизу убежала. Тут он, ее каторжник-то».
Через фарт братьев Степановых и Кузьме Романычу богатство привалило нежданно-негаданно, да такое, что расперло… Даже самому признаться боязно, что сотворил для него бог!
«Потешил бы, Романыч, признался бы, – пытают иногда его станичные казаки. – Сколько тыщенок в кубышку положил?»
От таких вопросов Кузьму Романыча озноб хватает. Сам выболтал спьяну о своей коммерции. А дело вышло так. Посоветовал ему Мардарий Ветошкин за чаркой водки купить акции Ленских золотых приисков.
«Будешь только купончики стричь», – уговаривал пристав.
«Пустое, Мардарий Герасимыч, да где денег-то взять», – отнекивался Катауров.
«Думаешь, я твоих доходов не знаю? – в упор посматривая на друга хитрыми полицейскими глазками, спрашивал Ветошкин. – Добра тебе желаю. Три дня назад они стоили по три сотни каждая, а сегодня уже четыреста. Я купил десять и тыщу целковых сегодня положил чистенькими и тебя еще вот угощаю».