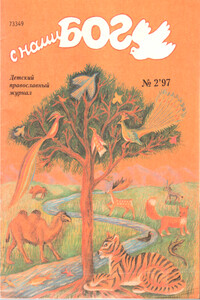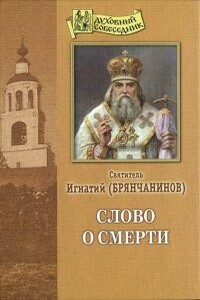Это и воспоминания, и размышления.
Жизнь определенно кончается, а в душе еще много невысказанного. Вспоминаются слова:
Мы вериги носим на теле
Нерассказанных этих лет.
Сил на что–то цельное и большое у меня совсем нет, а поэтому решил записать то, что успею, в надежде, что и это может кому–нибудь пригодиться.
*
Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости Церкви. Это длится недолго, а человек в эти минуты еще не знает наверное, — находится ли он сам в этой Святости, т.е. в Святой Церкви, на какой–то блаженный миг он чувствует, что стоит около ее пречистых стен.
Ибо наше бытие в Церкви — это не право наше, а всегда Чудо и Нечаянная Радость.
*
Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально, так что, когда ты стоишь в храме, то тогда только истинно приходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигало вокруг тебя колючую проволоку: ни неверия священника, воображаемого тобой только или действительного, ни злости «уставных старух», ни дикого любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуту услышит лучшее, чем ты, — голос Человека и Бога: Иисуса Христа.
*
Старец архимандрит Серафим (Батюгов) провел в затворе — не в монастыре, а в миру — примерно 12 лет, главным образом, в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 г. В затвор он ушел по послушанию. Он был в Дивееве у блаженной Марьи Ивановны, рассказывал ей о своей работе на приходе (в церкви Кира и Иоанна в Москве), работе, очень его вдохновляющей, а она его прервала и говорит: «Иди в затвор». Он еще раз попытался привести какие–то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же.
«И тогда, — рассказывал он мне, — я ей сказал: «Благословите, матушка». В затворе он пробыл до самой смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности Церкви, как–то изменяются на ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха, о. Алексея Зосимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы.
Старец Серафим рассказывал мне как–то раз один случай из его практики, говорящий о том же. Главным по сану в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением о. Серафима епископ был не согласен, и о. Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступать. Это продолжалось до тех пор, пока его мнение не подтвердил о. Нектарий Оптинский, и тогда о Серафим как настоятель поступил вопреки мнению епископа. Слово простого Оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы немыслимо.
Помню серебро длинных волос на плечах о. Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, этим народ смущает, а, может быть, испытывает меня: «Вот вы так снисходительны, — говорит он, — не обращайте внимания на мой костюм». — «Батюшка, — восклицаю я совершенно искренно, — какое же это может иметь значение?» Он молчит, но я вижу, что он доволен: значит, нет преграды между его теплой заботой о моей жизни и мной, ничего внешнее этому не мешает.
Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком–то смысле, быть рядом со старцем, и в то же время, около него я снова, словно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенцы не всегда чувствуют себя уютно. Бесконечность человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит, или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании с уже не человеческой, но сверхчеловеческой силой, много духовного зрения, — вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца.
Помню, я переписывал одно его письмо к какой–то духовной дочери по его поручению, и оно начиналось так: «Чадо мое любимое». Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, — со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого–то в пространстве пред собой — какого–то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда останавливает чтеца и начинает читать сам, но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит Богу. Или бывает так: он начинает читать молитву обычным голосом, размеренно, «уставно», но вдруг голос срывается, делается напряженным, глаза наполняются слезами, и так продолжается иногда несколько минут. Обычно для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним могло быть, так сказать, неудобно молиться, так же «неудобно», как не умеющим плавать идти за умеющим в глубокую воду. О. Владимир (Криволуцкий) однажды выразил ему свое смущение и осуждение. Он промолчал — и не изменился. И я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках и пророчествовали. Для нас такое богослужение — только предмет исторического интереса, а для святых оно, очевидно, есть реальная возможность. Отец Серафим с большим уважением относился к уставу, считал, что нарушение его по дерзости или небрежности гибельно («вне Устава, — как–то сказал он мне — когти диавола»), но сам в своем служении входил фактически в какую–то иную эпоху Церкви, которая, наверное, во многом будет походить на первохристианскую.