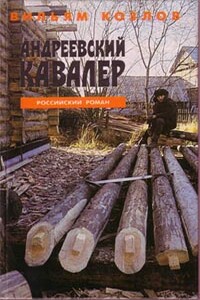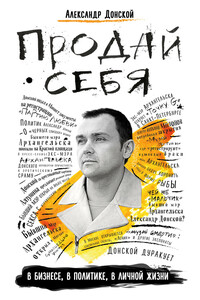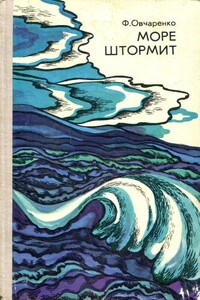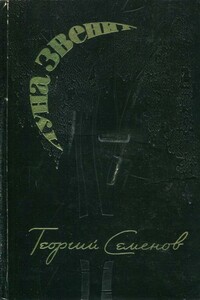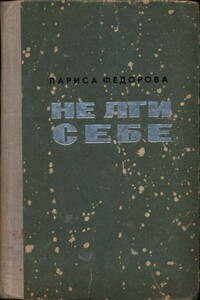Умирал дед Андрей, как умирали в старину русские люди. До последнего дня копошился по хозяйству: залатал прохудившуюся изгородь, приколотил гвоздями отлетевшую от колодезной крышки ржавую петлю, чисто подмёл избу. Хотел сосновый чурбан расколоть, но, подержав топор в руках, положил на место. Понял, что не осилить. Сходил к соседке — бабке Фросе, попросил жарко истопить баньку. Попарился на жёлтом полке с берёзовым веником, умылся, обрядился в белье смертное — годов пять назад положенное в нижний ящик комода, — постриг ножницами длинную белую бороду и, улёгшись на резную дубовую кровать, велел соседской девчонке Машеньке, вертевшейся во дворе, позвать столяра.
Когда тот притопал в своих гулких кирзовых сапогах и остановился на пороге, моргая со света маленькими глазками, дед Андрей сказал:
— Сапоги — то небось железными подковами подбиты? Грохаешь, чисто танкетка какая… Старика раздражали громкие звуки, они тупой болью отдавались в давно онемевшем желудке и в висках.
— Что глаза — то таращишь? Подь сюда!
Столяр, его звали Петром, подошёл, — он уже, как и все в небольшом посёлке, знал, что дед Андрей собрался умирать, — и внимательно посмотрел на старика. Огромный, широкий в кости, дед вытянулся, как старый выжженный изнутри дуб. Заострённый бледный нос смотрел в потолок, на обтянутых скулах желтела сморщенная кожа, ясный сосредоточенный взгляд устремлён куда — то сквозь Петьку, будто дед Андрей видит нечто такое значительное и сверхъестественное, что пока ещё недоступно другим. И, глянув в эти ясные стариковские глаза, столяр не стал говорить то, что принято в таких случаях, дескать, не кручинься, дед Андрей, тебе ещё жить да жить… И невооружённым глазом было видно, что жить ему осталось в обрез.
— Достань тут у меня в головах кошель, — сказал дед Андрей. — Чудно, рука правая чевой — то не поднимается…
Петька достал из — под подушки потёртый кожаный бумажник. Дед Андрей даже головы не повернул, лишь немного глаза скосил в сторону.
— Таксу твою я знаю, — сказал он. — Возьми пятёрку, и чтоб к утру был готов… Красить не надоть. Худо у тебя получается. Жидковато. Олифы, думаю я, жалеешь.
— Краска — то в сельпо какая, Андрей Иваныч? — возразил столяр. — Густотёртая, высохшая вся…
Дед Андрей сглотнул слюну — видно было, как на тощей шее судорожно мотнулся из стороны в сторону кадык, — и на секунду прикрыл глаза. Левое веко заметно подёргивалось. Пётр, засунув пятёрку в карман, положил бумажник под подушку и на цыпочках направился к двери. Но старик, справившись с навалившейся на него болью, открыл глаза и продолжал:
— Красить не надоть… Внука жду я. Должон приехать на похороны. Он этот… художник. Шесть лет учился, шутка ли? Уж надо полагать, гроб — то как следует сумеет покрасить… Не чета тебе. Чевой — то не вижу я тебя, Пётр… Ушёл, что ли?
— Тут я, дядя Андрей, тут, — отозвался с порога столяр. — Кошелёк твой в головы положил, как было. А насчёт… — у него язык не повернулся сказать — гроба, — будет сделано. Все как полагается, из сосновых досок. В обиде не будешь… — Петька прикусил язык и поморщился: неладно как — то сказал!
— Чего ж она не идёт? — снова прикрыв глаза, совсем тихо сказал дед Андрей.
— Кто? — тоже почему — то шепотом спросил Пётр.
— Укол надо… Пойдёшь мимо, скажи, чтоб побыстрей… Язык небось у поселкового чешет с бабами…
Старик крепко зажмурил глаза, грудь его под выносившимся серым одеялом стала быстро подниматься и опускаться. Он дышал хрипло, со свистом.
— Дядя Андрей… — топтался на пороге Пётр. — Может, воды?
— Ступай, — тихо и внятно сказал старик.
После укола, как всегда, полегчало. Медсестра Варенька хотела ткнуть шприцем в ягодицу, но нынче Андрей Иванович не смог самостоятельно перевернуться на спину.
И хотя он высох в щепку, Вареньке тоже не удалось сдвинуть его с места. Старик вдруг потяжелел. Скосив побелевший от лютой боли глаз, он выдавил из себя:
— Коли куда хошь, задница и так вся в дырках, как решето.
Сложив свои блестящие побрякушки в никелированную коробку, Варенька, мельком взглянув в тусклое, засиженное мухами зеркало и поправив светлую вьющуюся прядь, ушла. Ушла и боль. Андрей Иванович наизусть знал весь её путь: от горла вниз по пищеводу в верхнюю часть желудка, оттуда боль скатывалась в пах и потом, угасая и рассеиваясь, долго путешествовала по кишкам. Когда боль уходила, потолок переставал струиться и куда — то бежать, будто вьюжная позёмка, и из зеленого снова становился белым, с тёмными подпалинами по углам.
Старик, все так же вытянувшись, лежал и смотрел в потолок. Он знал, что сегодня умрёт, и терпеливо ждал своего часа. Он знал, что умрёт, когда вернулся домой после операции, хотя ему никто не сказал, что после вскрытия обнаружили запущенный рак и снова зашили. Давно он носил под левым подреберьем эту тяжёлую, как слиток руды, боль. И после операции она осталась все там же, в левом подреберье. Постепенно боль расползалась вширь и вглубь. Последние две недели он почти ничего не ел, а если и пытался что проглотить, то из этого ничего не получалось. Правда, ему уже давно есть не хотелось.