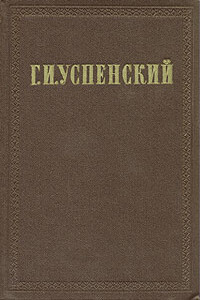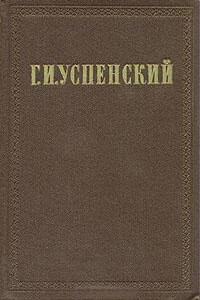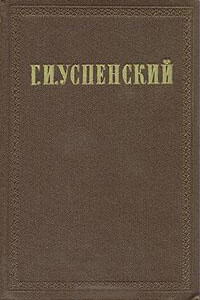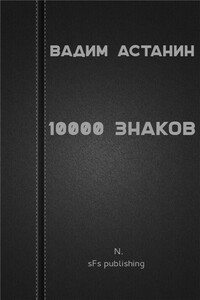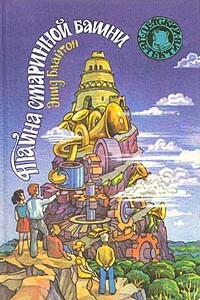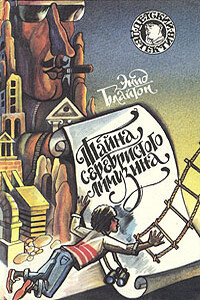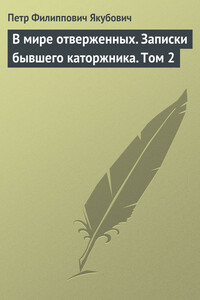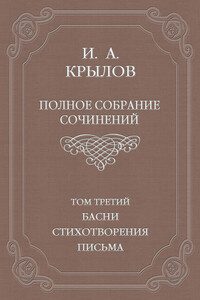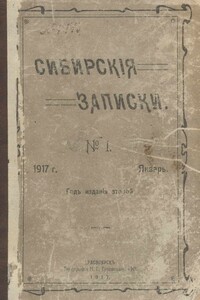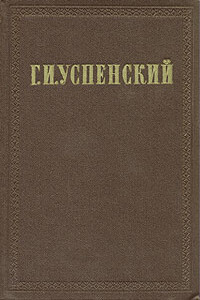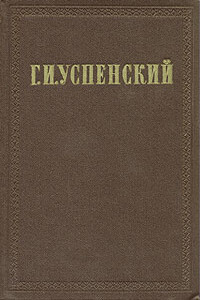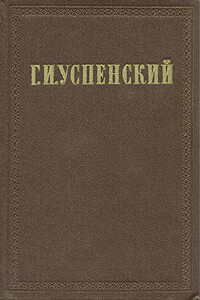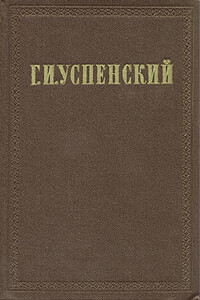В новом, пахнувшем краской вагоне третьего класса было жарко натоплено; публики было мало, места для всех много, всем просторно и свободно; на двух лавках с полным комфортом расположился кондуктор: он пил чай, закусывал и в то же время составлял какие-то ведомости; несколько солдат в углу, сняв шинели и оставаясь в одних рубахах и фуфайках, играли в карты; какой-то доброволец из мещан занялся топкой печки и «накаливал» ее без всякого снисхождения.
— Так, так! — хвалили его. — Держи тепло-то ровней, оно что теплее, то лучше!
И доброволец, весь красный от жару, усердствовал из всех сил; поминутно он гремел чугунной заслонкой и швырял в огненную и трескучую пасть печки маленькие сосновые поленцы.
Какой-то молоденький приказчик, какой-то молодой солдат, еще какой-то купеческого образа и подобия человек и простой мужик, примостившись у двери, отворенной в то отделение, где топилась печь и откуда шло тепло, занимались чтением газеты и разговорами. Читал молодой рослый солдат в новой красной фуфайке.
Читал он «листок», начиная с первой строчки, и, по-видимому, не желал прекратить чтения, не дочитав газеты до последней строки; начав передовицей о замыслах Англии против России, он без передышки после точки, заканчивавшей передовицу, и не меняя интонации, стал путаться языком в придворных известиях, потом в городских происшествиях, потом в иностранных новостях и, наконец, достиг судебной хроники. Слушатели очень внимательно следили за чтением и не столько за смыслом прочитанного, которого и действительно было не особенно много в листке, сколько за трудной работой, обнаруживавшейся в лице и губах не раз вспотевшего чтеца. Наконец он добрался и до конца судебной хроники, в которой очень кратко пересказан был один из многочисленных в последнее время земельных процессов и который по обыкновению сопровождается действием холодного оружия; чтец замолк, повертел в руках газету и сказал:
— Теперича — все! Пошли объявления… Надо горло прочистить, папиросочки покурить!
Чтец закурил папиросу, поразмялся. Поразмялись, поотдохнули и слушатели. Начался разговор.
— Это что же, любезный, — спросил солдата слушатель-мужичок, — что же это считается холодное оружие? И горячее, стало быть, есть какое?
— А как же! — плутливо проговорил смешливый молодой приказчик. — И горячие есть! В законе прямо сказано: «дать ему, подлецу, двадцать горячих!..» Вот это самое и есть горячее оружие…
— Нет! — снисходительно улыбаясь и поплевывая от крепкого табаку папироски, авторитетно сказал солдат, — розги это не могут обозначать. Оружием называется ружье, и ежели, например, прикладом, то по закону оно считается холодное; а ежели зарядить и пулей или дробью плюнуть, следовательно до крови, то оружие будет считаться горячее. Потому, что ты прикладом должен его дуть плашмя, и он должен существовать опосле того в живом виде, ну а коль скоро горячим способом, так, пожалуй, и богу душу отдашь!
— А ежели саблей цапнуть? — опять вмешался мужик. — Она ведь до крови может, а горячего в ней ничего нет?
— Ну, сабля — это не пехотное дело, там другая команда. А пехотный закон — прикладом!..
Разрешив трудный вопрос и дав молодому приказчику богатую тему для подтрунивания над мужиком, перед которым теперь открылся огромнейший выбор по части холодного и горячего, — солдат вновь было взялся за чтение, но в это время из средины вагона поднялся какой-то благообразный и сухонький старичок в опрятненьком мерлушечьем тулупчике, с опрятненькой козлиной бородкой и, подойдя к собеседникам, каким-то монашеским голосом спросил:
— Это кого тут… прикладом-то… в повиновение?
— Да тут мужичонки заартачились в одном месте… Ну, вынуждены были холодненьким пугнуть…
— И полегчало?
— Должно быть что поочувствовались.
— И все поняли?
— Говорят — «виноваты!»
— Ну, так!..
Старичок улыбнулся тонкой, хитрой улыбкой и, повернувшись, пошел к своему месту.
Старичок этот, один из излюбленных теперешних типов деревни — тип кулака с обличьем, так сказать, «религиозно-нравственным» — сидел все время в темном уголке вагона, в том месте, где скамейки прислонены не к окну, а к глухой стене; сидел он в соседстве с таким же благообразненьким соседом той же хитрой породы, с таким же постно-хитрым лицом и в таком же опрятненьком мерлушечьем тулупчике. Оба они были несомненно большие деревенские воротилы, но из тихеньких, из «примерных» и вполне безукоризненных. Сидя друг против друга, они скромненько, с молитвой и крестными знамениями ели какую-то булочку с икрой. И в то же время они неумолчно, хоть и совершенно беззвучно, вели беседу, а ведя беседу о своих делах, отлично, до последнего звука отчетливо слышали и видели все, что делается и говорится кругом. Бывают такие счастливые натуры: молча обделывают практические дела, «молча говорят», все видят, все слышат, знают всю подноготную и во всех отношениях неуязвимы.
— Ишь ты вон! — беззвучно сказал старичок, садясь опять на свое место против своего собеседника, — уж и холодным прикладом стали припугивать! Оно давно бы пора за ум-то взяться, чем дозволять мутить без толку…