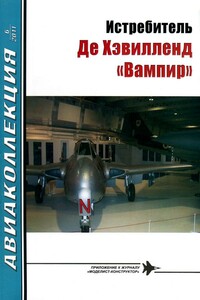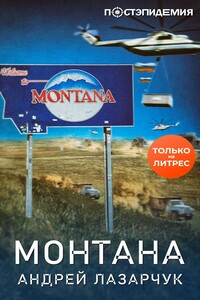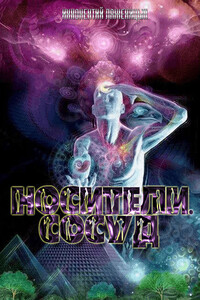Малыш поставил на пол квадратную утепленную сумку, оглянулся, чтобы убедиться, что за ним никто не следит, отпер заднюю дверь и вошел в дом — точнее, в кухню. Он снял с полок тарелки и стаканы, вынул из ящиков ножи, вилки и ложки, вытащил четыре большие бутылки газировки (еще запечатанные) из гигантского холодильника и взял со стола два широких подноса. Все это он разместил на сервировочном столике на колесах. Обычно на всю подготовку уходило пятнадцать минут; сегодня он уложился в десять. Малыш нервничал и был немного напуган. Он боялся, что пришел в этот дом в последний раз.
Расставив все по подносам, чтобы столик не перевернулся, мальчик выкатил его в коридор, повернул налево и вошел в громадную спальню толстяка.
— Привет, малыш! — сказал толстяк со своей кровати.
На самом деле их было четыре — четыре двуспальные кровати, составленные в лежбище, на котором уместилось бы два грузовичка. Тело толстяка подпирала, наверное, тысяча подушек, потому что, оставшись без опоры, он бы просто задохнулся под собственным весом. Дышать ему все равно было трудно, поэтому рядом с кроватью стоял кислородный баллон.
— Здравствуйте, сэр, — ответил малыш, подкатив столик к кровати толстяка, осторожно, чтобы не задеть баллон. — Я привез пиццу, как вы просили. С двойным сыром, пепперони, гамбургерами, луком и паприкой, все четыре.
Он открутил крышку первой двухлитровой бутылки газировки и налил себе и толстяку.
— Тебя никто не видел?
Малыш покачал головой и достал первый поднос.
— Не думаю. Я шел проулками и срезал углы. Запутал следы. — Он покопался в кармане. — Вот сдача.
— Оставь себе.
— Но тут почти двадцать долларов!
— Считай это надбавкой за вредность, и пускай об этом болит голова у моих бухгалтеров.
— Спасибо. Хорошо, что я запутал следы.
Толстяк улыбнулся.
— Я знал, что ты смышленый мальчик. И не слушай этих кретинов, которые насмехаются над тобой, дома или в школе.
Он взял первый стакан газировки, в последний момент вспомнив, что нужно убрать с лица кислородную маску, сделал глоток.
— Ооо, как освежает!
Толстяк наблюдал, как малыш сервирует первый поднос.
— Что за мир там, снаружи, а? Что за мир. Столько красивых людей, таких крепких, здоровых и счастливых, и все они очень правильных размеров. Словно мало было фильмов, телешоу, реклам и журнальных обложек, где красовались люди с идеальным прикусом белоснежных зубов и телами, идеальными до абсурда. Не-ет. Они решили — имей в виду, дорогой мой, это случилось задолго до твоего рождения, так что, думаю, ты о таком даже не слышал, — они решили принять закон, гласящий, что люди вроде меня, те, у кого тело «больше установленного размера», — выброшенные на берег киты, человеческие толстозавры, весомый народец, обладатели изобильного тучносложения, и если такого слова не существует, его, черт возьми, стоит придумать, ведь так? — они приняли закон, в обтекаемых юридических заклинаниях, наполненных прилагательными… закон, гласящий, что нам, членам, прости за выражение, партии пышнотелых пухликов, не дозволяется покидать своих домов, пока наши тела не станут… как они там написали? А, да, «более эстетически приемлемыми». Одно это может лишить человека аппетита.
Он подмигнул малышу.
— Но только не меня.
Закончив с подносом, малыш улыбнулся. Толстяк всегда говорил очень интересно, и малыш часто улыбался. Вернувшись домой от толстяка, он иногда записывал эти — сам толстяк называл их «перлами крупногабаритной мудрости» — изречения своего необъятного друга. Толстяк говорил с ним как с настоящим человеком, а не как с ребенком, над которым все смеются или сюсюкают невыносимо писклявым голосом. Малышу это нравилось. Очень нравилось.
— Ну, чего же ты застыл, разинув рот? — спросил толстяк. — Господи, даже Федор Евтищев, более известный как «собаколицый мальчик Джо-Джо», и тот не таращился с таким отсутствующим видом, как ты сейчас. Давай, присоединяйся, накладывай себе. У тебя молодой, растущий организм, пора начать наш роскошный банкет!
А как толстяк ел! Незабываемое зрелище. Каждый кусок пиццы, каждую порцию жареных овощей, каждую полоску чесночного хлеба, ложку пудинга или тонкий кусочек пахлавы он изучал с пристальным вниманием ювелира, рассматривающего редкий и ценный камень. Иногда он даже прерывал исследования, чтобы выдать нечто вроде:
— Хруст пиццы похож на отголоски далекой грозы летней полночью, когда ты еще достаточно молод и веришь, что где-то там, в небесах, скрываются корабли марсиан…
Или:
— Ничто, я повторяю, ничто не сравнится с жарким духом еще теплой, только что из печки, буханки хлеба, разломленной пополам; такое удовольствие — представить, как бабушка пекла его всю ночь, потому что ты у нее в гостях, а ей уже некому печь после кончины дедушки…
Или:
— Ощущения от первого глотка холодного лимонада — словно чудесная ледяная птица расправляет крылья у тебя в груди, передавая тебе дар полета, и с каждым глотком ты поднимаешься все выше, оставляя позади всю людскую жестокость…
Или:
— Смертный грех, когда человек быстро проглатывает бесподобный, поистине изумительный чизбургер; неважно, ешь ли ты в ресторане или дешевой забегаловке: кто-то взял на себя труд приготовить его своими руками, и этот труд нужно уважать, даже если повар никогда не узнает, как ты восхищен его умением обращаться с грилем и лопаткой.