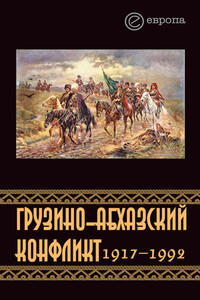На протяжении 1990-х и начала 2000-х гг. Северный Кавказ в основном воспринимался в России как «Чечня и окрестности»: все наиболее значимые события происходили именно в Чечне, соседние регионы пребывали в ее грозной «тени». В середине 2000-х ситуация стала меняться: чеченский лидер Рамзан Кадыров при поддержке федерального центра получил всецелый контроль над своей республикой, которая, по многим оценкам, сделалась для российской власти еще менее «прозрачной», чем в военные годы. При этом Кадырову не позволили стать фигурой общекавказского масштаба: на другие регионы российского Кавказа чеченское руководство мало оказывает влияние. Можно долго спорить о том, насколько стабильна нынешняя ситуация в Чечне, однако очевидно, что, пока она сохраняется в своем сегодняшнем виде, позиции федерального центра на кавказском направлении во многом зависят от того, что происходит в других северокавказских республиках.
Агрессия Грузии против Южной Осетии в августе 2008 г. подтвердила и дополнительно повысила политическую роль республик Северного Кавказа, которые вовсе не ограничились в тех событиях функциями тыла. Если чеченский батальон «Восток» в составе регулярных частей Российской армии принял участие в ответной операции против грузинских войск, то другие народы Северного Кавказа были готовы послать в район конфликта своих добровольцев. Это заставило вспомнить о грузино-абхазской войне 1992–1993 гг., когда победа Абхазии в значительной мере была обеспечена войсками Конфедерации горских народов, состоящими из северокавказцев. На этот раз неконтролируемого участия добровольцев в конфликте не было. Общественные организации, способные объявить их призыв, показали, что не будут этого делать без согласования с федеральным центром. Но стало очевидным и то, что «национальные» регионы Юга России по-прежнему обладают значительным потенциалом политической и военной мобилизации населения.
Поэтому неудивительно, что эти республики сегодня уже никому не представляются «гнилыми местечками» и вызывают серьезный интерес политиков, политологов, журналистов. Правда, здесь не обошлось без некоторых «несправедливостей»: Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия получают гораздо более пристальное внимание, чем республики Западного Кавказа, считающиеся более «спокойными». Действительно, ситуация в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии лишь в редкие моменты достигала того накала, который стал уже привычным для восточных соседей этих республик, а Адыгея и вовсе счастливо избежала в постсоветское время каких-либо грозовых событий. Однако во всех западных республиках Северного Кавказа в последние годы происходили весьма непростые процессы, и не раз приходилось слышать прогнозы, что имеющиеся там внутренние противоречия могут вырваться наружу и вызвать серьезные социальные катаклизмы.
Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария в значительной мере объединены общей многовековой историей, а на рубеже XX и XXI веков развивались, можно сказать, параллельным курсом. После политической неопределенности 1990–1991 гг. власть в этих республиках крепко взяли в свои руки представители местной бюрократии, занимавшие там ключевые посты еще во времена СССР. Можно сказать, что смены поколений, имевшей тогда место во властных структурах многих регионов, на западе Кавказа с уходом коммунистического режима не произошло: там в запасе у партийной бюрократии оказалось еще несколько лет достаточно спокойного существования. Однако к началу 2000-х гг. во всех трех республиках элиты уже основательно «лихорадило», противоречия между властными кланами, бизнес-группами, отдельными территориями становились все ощутимее.
По сути своей эти противоречия вряд ли сильно отличаются от того, что можно видеть во многих других субъектах Российской Федерации, где и сегодня, несмотря на возрастающую регулярность государственного устройства, нередко возникают конфликты, связанные с борьбой за какие-то активы или за рычаги политического влияния. Однако в данном случае значимость — и потенциальная опасность — любого такого конфликта усиливается той самой «кавказской спецификой», о которой, к месту или не к месту, говорится немало. На мой взгляд, эта специфика — не в пресловутой «горячности» жителей региона и не в приписываемом им неумении решать спор миром: несостоятельность этого последнего обвинения в свой адрес народы Северного Кавказа, в том числе его западной части, за постсоветский период не раз доказывали. Истинная же специфика видится в ином. Северный Кавказ — особенно в своем наиболее густонаселенном городском секторе — объединил разные народы, но не стал для них «плавильным котлом», лишающим этнического самосознания. Оно на западе Кавказа укрепляется еще и тем, что у основных проживающих там народов довольно сильно отличаются судьбы, как в далеком, так и в недавнем прошлом. Всякая заметная фигура в северокавказских республиках неизбежно воспринимается сквозь призму своей принадлежности к тому или иному народу, а всякая территория — прежде всего как часть исторической земли определенного этноса. Это вовсе не влечет неизбежность межнациональной конфронтации: ее на западе Кавказа даже в трудные моменты почти всегда удавалось не допустить. Но любое вполне рядовое событие наших дней — будь то региональные или местные выборы, изменение границ муниципальных образований или смена собственника на предприятии — в этой части России оказывается «нагруженным» совершенно особыми, незнакомыми многим другим регионам смыслами. Любой такой эпизод видится как продолжение истории целого народа (или, чаще, двух либо трех народов), даже если на практике он затрагивает интересы очень ограниченного круга лиц. Такая особенность кавказского «зрения» заставляет с большим вниманием относиться даже к локальным конфликтам, которыми на других территориях заведомо можно было бы пренебречь.