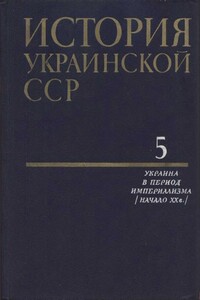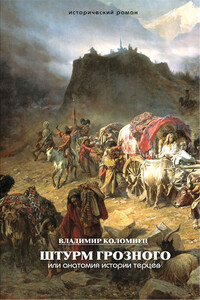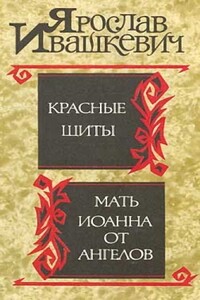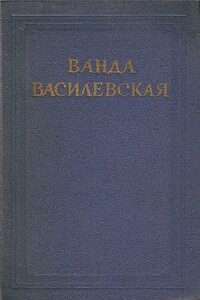I
Гаша уже в третий раз успела осмотреть себя в зеркальце, подрумянить щеки конфетной бумажкой, протереть о край кошмяной полсти свои серебряные полумесяцем серьги, а батькин гость, вахмистр Данила Никлят, все не уходил. И из горницу, где они сидели, через настежь открытые двери коридора в кухню плыл вместе с табачным дымом его густой сиплый бас.
Охотлив до беседы за выпивкой дядька Данила: не успел в станице объявиться, а уже к дружку ввалился, чуть не с утра сидит. Гаше в горнице быть больше минуты не полагалось (неприлично девке в мужской компании уши распускать), но все ж успела она понять, что из Владикавказа дядька пешком пришел, а туда прямо с турецкого фронта прибыл.
Подвыпили дружки уже основательно. Слышала Гаша, как батька то целоваться лез к Даниле, то ругался с ним и гремел по столу тяжелой кружкой.
— Агафья! — время от времени орал он в открытую дверь. — Подсыпь-ка нам огурчиков!
И Гаша проворно хватала с лавки загодя наполненную солеными огурцами шайку, бежала в горницу. Или сала требовали, нарезать, и тогда она лезла в чулан, гремела крышками ларей… Так и провела время до вечера. Мать, слегка прихворнувшая, лежала в боковушке, и Гаша, злая на весь белый свет, думала про нее без всякого почтения: «Тоже приспичило… Завсегда так: собирусь куда — обязательно помешают…»
Синева на дворе сгустилась: осенняя ночь, безлунная, баркатисто-густая, подступила к самым окнам. Гаша засветила лампенку и, став коленями на лавку, поглядела во двор: может, Антон, не дождавшись ее на площади, пришел к дому? Но ничего, кроме своего отражения, проступавшего откуда-то из тумана, не увидела. Неожиданно загляделась на него. Мила она была здесь, лучше, чем в зеркале. Ни пятнышка, ни морщинки на круглых с ямками щеках. Глаза огромные, и так и перемигиваются то с серьгами, то с дорогами монистами. Нос тонкий с горбинкой, губы — вишни — красные, тугие.
— Красивая! Что ж, нате-ка, красивая… и все тут! — вслух, будто споря с кем-то, сказала Гаша. — Да и не бедная!
Сдернув с гвоздя шелковый с розами по кайме платок, она накрыла им плечи и горделиво прошлась по комнате. У батьки ее, Кирилла Бабенко, и земли немало, и коровки, и овечки водятся. И хата кирпичная под красным железом, о четырех окнах по лицевой стороне, с широким коридором, затейливым нарядным крыльцом, и полы деревянные, не то что у иных! А двор, что тебе сундук, — и крепкий, и полный. Чердаки, закрома зерном набиты, в погребах — бочата с вином, макитры с салом, колбасами. А Агафья — одна дочь у родителей, если не считать Якимку, старшего ее брата, пропавшего без вести на германском франте еще в первый год войны. Есть, правда, и побогаче невесты в станице. Вот хоть бы дочь урядника Анохина — Липка, при виде которой у Гаши всякий раз холодело под сердцем от зависти. И сейчас-то, вспомнив о ней, Гаша нахмурилась.
— Девка! Горилки! — заорал отец.
Схватив ведро, на дне которого еще плескалось, Гаша бросилась в горницу.
Друзья были в самом накале. Глаза у обоих блестели, носы пылали. Распушив усы — у отца с проседью, у дядьки Данилы — вороненые, — оба налегли на стол, кричат один другому в лицо:
— Вспомни, Кирюха, как в славном Хоперском полку мы в девятьсот пятам заварили… Не пошли на рабочих — и баста! — сипло гудел гость. — Гуртом порешили, гуртом исполнили… Гурт, братушка, он — сила…
— Решили-ть гуртом, да отвечали порознь… Ты-то ван сух вылез, лычками доселе красуешься, а меня со строевой — в шею… В станице чертом глядели, чуть не дезертиром величали… Замолил грех еле-еле, опчественные службы стравляя…
— А и славно же было! Как мы тогда все гуртом… А? Помнишь, Кирюха… А в листовке тогда как писали: «И казаки люди, и они граждане!..» Во-о! Вона что: единожды и нас людьми назвали…
— Казаки мы… Царя белого служаки — не люди! — совсем пьяным тонким голосам вскричал хозяин.
— А вот эти… большевики, они нас человеками, значит, тоже признают, — поднимаясь во весь рост, крикнул Данила. Выпятив грудь, он разгладил взмокшие усы и, блестя глазами, еще раз повторил:
— Человеками, понимаешь? Казаков человеками, а не душегубцами впервой назвали…
Отец вдруг грохнул кружкой об стол, окатив Гашу градом брызг.
— Человеками называют, а сами землю собираются отобрать, осетинам, ингушам нарезать… Жиды они, германцам проданные, вот кто!
— И что б вас кобыла копытам! — ругнулась Гаша, выскакивая в сени. — Помешались чисто все: и пьяные и трезвые только и знают: большевики, да жиды, да земля… Хочь бы вам треснуть с вашими большевиками вместе… Уйду сейчас на улицу, орите тут…
Она схватилась было за платок, но тут же передумала.
— Обожду еще чуток… Не велик барин Антон, подождет… Небось где у хаты похаживает…
Гаша выкрутила посильной фитиль в лампе, взялась за зеркальце… Красавица… Нет, не отдаст отец ее за Антона, да и сама она не пойдет… Куда ж идти? В тот катух, что у Антона вместо хаты красуется? А хорош парень Антон! Целует-то как!.. Ух! При воспоминании о теплой и необъятной Антоновой груди, о его больших ласковых руках Гаша зажмурилась, засмеялась: