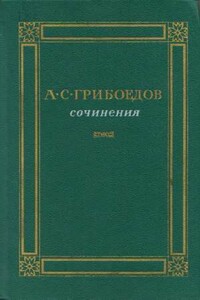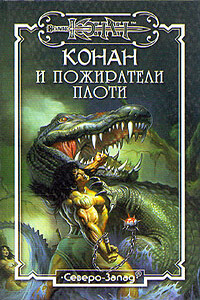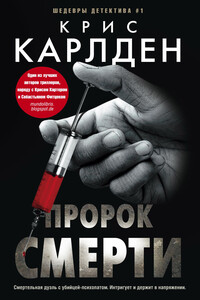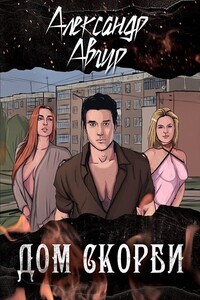Конрад АЙКЕН
Перевел с английского Самуил ЧЕРФАС
Conrad Aiken. Silent snow, Secret Snow
ТАЙНЫЙ, ТИХИЙ СНЕГ
I.
Он, конечно, не смог бы ответить, почему это должно было случиться, или случиться именно тогда, и, пожалуй, даже удивился бы такому вопросу. Ведь самое главное, что это было тайной, тайной бережно хранимой от отца и матери, и что в самой таинственности и заключалась почти вся волнующая прелесть. Так бывает, когда, не показывая никому, носишь в кармане удивительно красивую вещицу: редкую марку, старую монету, обрывок тоненькой золотой цепочки, растоптанной на дорожке в парке и найденной, камушек, ракушку, не похожую ни на какую другую из‑за особенного пятнышка или полоски — и, как если бы его тайна была той же природы, он носил её со всё растущим теплым и сладостным чувством обладания. Нет, не одного только обладания, но и приюта. Непонятным волшебством тайна стала его крепостью, за которой он мог укрыться в дивном уединении. И это, за исключением, может быть, самой лишь странности случившегося, сразу привлекло его ум, и сейчас, когда он сидел в классе, в сотый раз явилось ему.
Шла вторая половина урока географии. Мисс Бюэл медленно, одним пальцем вращала огромный глобус на столе. Возникали и уплывали зеленые и желтые материки, ответы следовали за вопросами, маленькая Дэрда, девочка со смешным созвездием веснушек на затылке, копия Большой Медведицы, встала и ответила мисс Бюэл, что экватор — это линия, которая находится посередине.
Лицо мисс Бюэл, пожилое, поблекшее и доброе, с седыми жесткими прядями на щеках, и глазами, яркими и плавающими, как рыбки за толстыми очками, сморщилось и просияло.
— Ага, я поняла. Значит, Земля носит поясок или веревочку, или кто‑то взял и перевязал её бечевкой?
— Нет, не так, я думала…
Он не рассмеялся со всеми, может, лишь чуть улыбнулся. Он думал об Арктике и Антарктике, которые на глобусе, конечно, были белыми. Сейчас мисс Бюэл рассказывала о тропиках, о джунглях, о душной жаре экваториальных болот, где и птицы, и бабочки, и даже змеи подобны живым самоцветам. Прислушиваясь, он уже сладостным и ленивым усилием заслонялся от слов своей тайной. Да разве можно это назвать усилием? Ведь усилие — это нечто осознанное, даже нежелательное, а ему оно было приятно, и совершалось как бы само собой. Ему только надо было подумать о том утре, о первом утре и обо всех наступивших за ним…
О, как это было просто! Как мало от него требовалось — совсем ничего не требовалось, одна только мысль — и почему же она всегда приносила столько несравненной радости — в этом была тайна, тайна несомненно приятная и, странным образом, глупая. И всё же не переставая слушать миссис Бюэл, которая к этому времени переместилась уже в умеренные широты Северного полушария, он намеренно вызвал воспоминание о первом утре. Это длилось секунду или две после того, как он проснулся, а, может быть, в самый момент пробуждения. Но кто скажет, где же этот точно определенный момент пробуждения? Как просыпается человек — сразу? или постепенно? В то утро он лениво протянул руку к спинке кровати, зевнул и снова расслабился под теплым одеялом, благодарный декабрьскому утру, что именно оно принесло с собой это. Вдруг, безо всякой причины, он подумал о почтальоне, он вспомнил почтальона. В этом, пожалуй, не было ничего странного — ведь он слышал его приближение каждое утро своей жизни — ещё из‑за угла доносились шаги его тяжелых ботинок, когда он поднимался по крутой улочке. Шаги становились всё ближе, всё громче, два стука в каждую дверь, потом на другую сторону улицы и обратно, потом почтальон неуклюже топал к самой их двери, и раздавался страшный стук, сотрясавший весь дом.
(Мисс Бюэл объясняла: «Обширные районы Северной Америки и Сибири, занятые посевами пшеницы…»
Дэрда на минуту положила левую руку себе на затылок.)
В то утро, самое первое утро, лежа с закрытыми глазами, он зачем‑то ждал почтальона. Ему хотелось услышать, как тот повернет из‑за угла. Но — странное дело — этого не случилось. Из‑за угла он больше не появлялся никогда. Когда же, наконец, стали слышны шаги, почтальон уже подошел к первому дому, немного спустившись по улице, и звучали они необычно и странно — мягко, таинственно, глухо и невнятно; и хотя ритм их не изменился, говорили они об ином: мир, говорили они, отрешенность, прохлада, сон. И он вдруг сразу сообразил: что может быть проще — ночью выпал снег, такой, какого он нетерпеливо ждал каждую зиму — вот почему первые шаги почтальона были неслышны, а последующие звучали так тихо. Ну, конечно! Какое чудо! Снег ещё не кончился, он будет идти целый день — длинные белые змейки завьются, зашуршат по улице, по лицам старых домов, тихо зашепчут, наметут белые треугольнички между булыжниками, посвистывая на ветру пронесутся по земле и улягутся сугробом в углу; и так будет весь день, всё глубже и тише, глубже и тише.
(Мисс Бюэл произнесла: «Край вечных снегов»).
Всё это время (конечно, лежа в постели) он не открывал глаз, слушая, как почтальон подходит ближе, как его глухие шаги ухают, оступаясь, по запорошенным булыжникам; и все другие звуки — двойной стук, далекие морозные голоса, тонкий и слабый, как из–подо льдины звонок — были отрешенными, будто сдвинутыми на один градус от действительности — будто весь мир был укутан снегом. И когда, наконец, он радостно открыл глаза и обратил их к окну, чтобы воочию увидеть это долгожданное и так явственно воображенное чудо — он вдруг увидел сияющие под ослепительным солнцем крыши; а когда, изумленный, вскочил с постели и выглянул на улицу, ожидая увидеть покрытый снегом булыжник, он увидел просто булыжник, блещущий и голый.