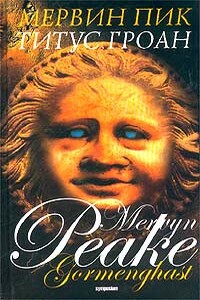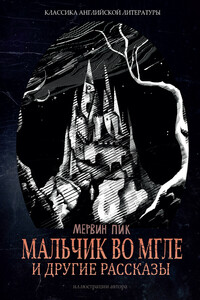Мервин Пик
Там же, тогда же
Вечер - и я ненавижу отца. От него несет тушеной капустой. У него брюки - все сплошь обсыпанные сигаретным пеплом. Усы - лохматые, желтые, вонючие, проникотиненные. Он меня не замечает. Ненавижу. Он сидит в своем гнусном кресле, прикрыв глаза, думает Бог весть о чем. Ненавижу. И усы его ненавижу, и даже дым, который он выпускает изо рта, и воздух над его головой, воздух, разбавленный дымом.
Мать вошла и спросила, не видал ли я, случайно, ее очков. И ее ненавижу. Шмотки ее ненавижу, безвкусные, мещанские. Ох, ненавижу! И еще возненавидел, как только увидел - каблуки ее, сношенные, скошенные, не то чтоб совсем, но заметно. Уродство, мерзость, а главное - так по-человечески, до отвращения. Мать - человек. Ненавижу ее за это. И отца тоже.
Она все нудит, трындит - про очки свои, про то, что у меня рукава чуть не до дыр на локтях протерлись, и я резко отбрасываю книжку. Не могу выносить эту комнату. Я - тут - задыхаюсь! Понимаю - пора сматываться. Господи, и вот с этими людишками я прожил чуть не двадцать три года! И вот в этой комнате я живу с тех пор, как родился! Это что - жизнь для молодого парня? Вечера напролет смотреть, как поднимается дым из папочкиной трубки, как шевелятся поганые старые усы? Год за годом пялиться на маменькины сбитые каблуки? На темно-коричневую мебель? На осточертевшие проплешинки шоколадного ковра? Нет, я уйду, я отряхну с ног моих прах темной и вязкой человечности этой берлоги, человечности, навалившейся на меня по праву рождения. Бизнес отца, в котором мне должно заступить на его место? А не пошел бы он!..
Я стал пробираться к двери - ну и, ясное дело, на третьем же шаге споткнулся о край ковра, чуть не свалился, руку успел подставить - сшиб розовую вазу.
Как чувствуешь себя при этом? Очень маленьким. Очень злым. Рот матери распахнулся - точь-в-точь входная дверь, ну, правильно, дверь, выбежать из двери, бежать - куда? Черт подери, куда? Ждать ответов на мысленные вопросы времени не было, бежать пришлось, прочь из дома, не важно, знаю ли я, что делаю.
Скука, смертная, двадцатитрехлетняя тоска, как пружина разгибается, в спину ударяет, и, кажется, я пропеллером вылетаю из садовой калитки, так толкает она меня в позвоночник.
Дождь, дорога - черная, мокрая, блестящая, как промасленная, как лакированная, отражения фонарей - как рыбки золотые в лужах. Автобусная остановка. Ну, так и где он, мой автобус до Пикадилли, автобус до острова Гдетотам, до станции "Смерть или слава"? (Не нашел я ни смерти, ни славы. Нашел только одно - то, чего не забуду, наверно, никогда.)
Автобус дрожал, набирал скорость, большой, светлый. А на черных улицах огоньки, а в окне - лица сотен людей, лица мелькают, пролистываются, как книжные страницы. А в автобусе - я. Сижу, шестипенсовый билет в кулаке сжимаю, да куда ж это я еду? Куда меня несет?
Отвечаю. К центру Вселенной. К Пикадилли-серкус, где случиться может все. А что же я хочу, чтоб случилось?
Жизнь, идиот! Ты жизни хочешь. Ты приключений хочешь... как, уже сдрейфил? Может, повстречаешь красавицу... я обхватил себя за локти, пытаясь ощутить, как напрягаются мускулы. Ощущать, увы, особо нечего. "Черт, - шепнул я себе, - черт, дьявол, кошмар".
Я выглянул из окна и - вот оно! Пикадилли-серкус. У меня перед носом. Огни - как вызов, как зов. Автобус свернул с Реджент-стрит на Шафтсбери-авеню, и я сошел. Один. Пешком в джунгли. Хищники крались за мной по пятам. Ярились бесчисленные волчьи стаи. Куда же теперь? Где она таинственная, знакомая, затемненная квартира, где меня ждут, где Дверь, что отворится на условный стук, на три удара длинных, три коротких, где комната, в которой - златокудрая дева? Или, может, старушка, да, так лучше, седая, мудрая, попивающая чай, престарелая дама, дружелюбная императрица, - та, у которой не бывает скошенных каблуков. Никогда.
Да. Только мне-то некуда идти - ни за шиком, ни за сочувствием. Некуда - кроме ресторана "Корнер-Хауз".
Туда и направился. Народу было поменьше, чем всегда, меня только несколько минут продержали, прежде чем оказали высокую честь - допустили в роскошный гурманский чертог на первом этаже. О, эти мрамор и позолота! Официанты носятся с подносами, звуки оркестра - чуть издали, да, и это после того, как всего час назад я уныло взирал на отцовы усы!
Со свободными местами возникли сложности, искал довольно долго, но вот я иду по третьему уже проходу и вижу старика, встающего из-за столика на двоих. Женщина, сидящая напротив, остается, где была. (А ушла бы - не рассказывал бы сейчас эту историю.) Машинально я занял место старика, потянулся за меню, поднял голову - и ошалело уставился в бездонные черные озера женских глаз.
Моя рука застывает над так и не взятым меню. Я не в силах шелохнуться так невероятно это лицо напротив меня, с крупными чертами, бледное, немыслимо гордое. Теперь бы я назвал ее взгляд жадным - тогда он показался мне исполненным королевской уверенности в себе. Царственная красота!
Что она - не та златовласая дева, которой я, пижон зеленый, мечтал обладать, как предметом роскоши, что она - явно не старушка-утешительница с чайником и чашками, - это я постиг сразу. Но в великолепной женщине предо мною сплелись, казалось, экзотическая таинственность первой моей мечты с мудрым всезнанием второй.