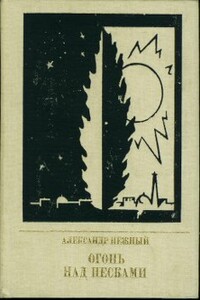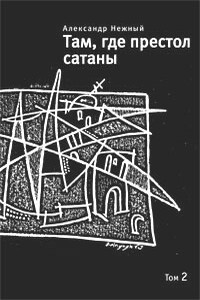Найдется – я знаю – немало охотников объявить мое сочинение ядовитой ложью, преследующей разрушительные для Православной Церкви и, стало быть, для России цели. Тотчас расползется слух о моей несомненной причастности к жидомасонскому заговору, а какая-нибудь из мерзких газетенок, громадное количество которых есть наивернейший признак распространившегося повсюду духовного педикулеза, обнародует неопровержимые сведения о том, что я состою в ложе «Утренняя заря» и достиг посвящения в тридцать третью степень.
Заранее смеюсь. Хотя от зловеще-постных физиономий, выглядывающих из газетного листа (формат, как правило, А2, в половину увядающей «Правды»), иногда становится не по себе. Раскалывая топором набитую еретической заразой голову, православные мстители обретают ни с чем не сравнимое блаженство честно выполненного религиозного долга. На шестую заповедь им плевать. Они совершенно уверены в том, что благословивший их на прополку человеческого сорняка священник убедит Господа не отворачиваться от принесенной Ему жертвы.
Сдается мне, однако, что мое повествование вообще мало кому придется по вкусу. Отчего? – меня спросят. Да оттого, что горькие источники питали его; что в наше время искреннее отношение к Церкви как к Дому Бога живого до скорби редко. Либо лицемерие, либо политика (худший вид лицемерия). Помилуйте! Когда вчерашний секретарь обкома и член ПБ (то есть душитель Церкви по долгу), зажав в мясистом кулаке свечу, в пасхальную ночь стоит в храме, огражденный барьерами и толстошеими охранниками от плотной толпы молящегося народа, – не является ли само его присутствие наглым вызовом Небу, милосердие которого, разумеется, беспредельно, но гнев праведен и суров? А генералы, табуном кинувшиеся в купель? Бандиты, повседневно жрущие человечину, но в среду и пятницу берегущиеся скоромного? Чиновники, в своих окропленных святой водой кабинетах готовые выклевать у просителя его робкое сердце? Жилистые пристяжные атеизма, теперь услужливо влезшие в апологетический хомут?
Ветхозаветная ярость бушует во мне, пригибая тощенькую евангельскую любовь.
Простите.
Но как ни понуждаю я себя к примиряющим размышлениям о неоднозначности человеческой природы, чему примером служит чудесное превращение Савла или чистосердечный порыв распятого по правую сторону от Спасителя Дисмаса, разбойника благоразумного, – я не нахожу в себе нравственных сил вообразить всех этих понацепивших на себя православные крестики уродов действительными христианами. (Впрочем, я, вероятно, тем самым подписываю приговор и себе.) Все христианство вообще выше разума; я понимаю. Савлу был голос с Неба, его поразивший до сокровенной глубины; он ослеп и прозрел, уверовав. В миг иссушающей Христа тоски Дисмас стал Ему другом. А они?
Есть также род людей, чье призвание – оцеживать правду. Одному из них, литератору средних лет, с маленькими карими глазками под выступающим лбом, дали на отзыв мою рукопись. Он принадлежал к новообращенным. Со свойственной им решимостью всецело посвятить себя православному делу, он стал служить (за небольшие деньги) в «Ежемесячнике Московской Патриархии», где опубликовал несколько статей о Патриархе Тихоне (Беллавине). Не могу сказать о них ни единого доброго слова. Зависть тут совершенно ни при чем, хотя, признаюсь, пару раз меня кольнула ревность собирателя, вдруг обнаружившего в чужих руках давно и страстно преследуемую им редкую книгу.
Объясню.
Он первым ввел в оборот несколько документов из архива Лубянки – в том числе протоколы двух допросов Святейшего той поры, когда Патриарх был в узах, то есть находился даже не под домашним арестом, а во внутренней тюрьме ОГПУ. Эти протоколы, однако, он подверг тщательнейшей цензуре, изъяв из них все, что свидетельствовало о слабости Патриарха: его признания, уступки, его раскаяние. Ущербные люди! У одних – топор, у других – какой-нибудь необходимый для оскопления инструмент, скорее всего – бритвенно-острый нож, которым они, трепеща от тайного наслаждения, режут беззащитное тело бедной правды. И во имя чего, о Господи, приносят они свою лишь по виду бескровную жертву? А вот, видите ли, для безупречного во всех отношениях жития, в назидание и воспитание колеблющегося народа. Им невдомек, что в мрачном состязании богоборцев наш Тучков далеко опередил проконсула Квадрата и что объявшее старца Поликарпа, епископа Смирнского, пламя милосердней, чем та нравственная пытка, которой семь лет без передышки колесовали Патриарха Тихона.
Впрочем, об этом впереди.
Отзыв же был вот какой (привожу дословно, с небольшими сокращениями, совершенно не меняющими сути): «Внимательно прочитанная мною рукопись представляет собой, если можно так выразиться, дворняжку самого отвратительного вида и мерзкого нрава, ибо появилась на свет в результате противоестественной смеси убогих потуг на художественное изображение известных событий в недавней истории Русской Православной Церкви и жизни вообще и архивных материалов, использованных автором с преступной недобросовестностью. Однако дело тут вовсе не в литературных пороках, которыми данное сочинение изъедено, как трухлявый пень червями. В конце концов, переводить бумагу, чернила и собственное время не заказано никому. И в данном случае мой долг менее всего связан с моей профессиональной способностью судить о художественных качествах предложенного мне на отзыв текста. Мое нелицеприятное мнение основано прежде всего на непреложных и неподвластных ничьему произволу требованиях высшей нравственности, на моих твердых православных убеждениях. Именно так: со всей ответственностью православно-верующего человека, ответственностью прежде всего перед Богом и нашей Русской Мученицей-Церковью я заявляю и на каком угодно суде готов доказать ложь, скверну и соблазн этого несчастного сочинения. Будучи издано, оно посеет в верующем народе и во всем обществе дьявольские семена недоверия в законности и каноничности нашего Священноначалия, и без того намеренно оклеветанного антиправославными средствами массовой информации. В наше смутное время, когда Церковь и Ее Священноначалие величайшими усилиями и трудами, должная оценка которых несомненно принадлежит будущему, стремятся укрепить национально-религиозные устои нашего Отечества, издание подобных книг совершенно недопустимо. Кто дал право автору измысливать соблазнительные и не выдерживающие даже малейшей церковно-исторической критики басни о существовании каких-то «тайных завещаний» и связывать их с именем Святителя Тихона, Патриарха Московского и всей России? Кто дал ему право чернить – пусть и под вымышленными именами – православных архиереев, приписывая им абсолютно несообразные с их саном и принятым на себя монашеским подвигом действия, мысли и суждения? Кто, наконец, дал ему право использовать в своем вызывающе-неблагочестивом сочинении святое для русского православного народа имя преподобного Симеона Шатровского?»