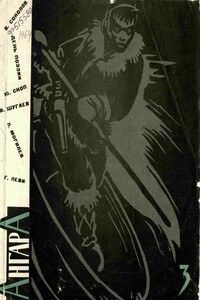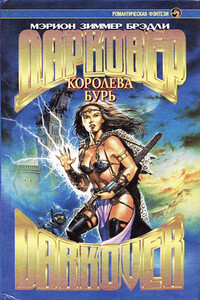«Это сочинение хорошо, но только безнравственно; а это и хорошо и отличается чистейшею нравственностию и прекрасным слогом». Так думал и говаривал, бывало, покойник XVIII век, который, как всем известно и ведомо, сам отличался чистейшею нравственностию и в делах и в помыслах. «Как безнравственна юная французская литература! Нельзя ничего дать прочесть молодому человеку, не говоря уже о девушке и даже всякой женщине!» Так вопиют ныне почтенные развалины почтенного XVIII века, обломки доброго старого времени. «Нравственность в литературе!» Да – это вопрос, и вопрос глубокий, многосложный, на который француз может написать два томика в двенадцатую долю, а немец двенадцать томов in quarto[2]. Не почитая себя способным ни к тому, ни к другому труду, я постараюсь в легкой журнальной статейке бросить взгляд на «нравственность в литературе».
На языке человеческом есть слова, которые люди повторяют, не вникая в их значение, не условливаясь в их смысле, повторяют и сердятся, когда кто-нибудь осмелится сказать: «Да что же это такое, милостивые государи?» К числу таких странных слов принадлежит «нравственность вообще» и «нравственность в литературе». Древние передали нам в изящных формах кровавую историю Эдипа и фамилии Атридов, историю, полную мрачных злодейств, возмутительных преступлений, как-то: отцеубийства, братоубийства, мужеубийства, кровосмешения{1}, и блюстители нравственности находили тут бездну нравственности; потом, писатели, появившиеся в конце XVIII и начале XIX века, начали изображать жизнь во всей ее ужасающей наготе и истине, и хотя они, в ужасном, далеко не превзошли древних, но блюстители нраственности оглушающим хором заревели против безнравственности новейших писателей. Воля ваша, а тут есть недоразумение. Кажется, все дело в том, что дурно условились в значении слова «нравственность».
Что такое нравственность? В чем должна состоять нравственность? – В твердом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой вере в достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера есть источник всех человеческих добродетелей, всех действий. Если я твердо убежден в том, что мир обширная торговая площадь, где люди обманом, и мытьем и катаньем, выторговывают друг у друга тепленькое местечко, где бы можно было и поесть сладко, и соснуть мягко, и погулять весело, площадь, на которой всякий думает только о своих барышах и почитает позволительными все средства к достижению своей цели, и между тем повторяет общие места морали, не веря им, – то скажите, бога ради, зачем же я должен быть добрым, честным, великодушным, зачем осужу я себя на лишения, на страдания, когда могу наслаждаться благами жизни? Я был бы, в таком случае, очень глуп, не правда ли? – Разве из страха угрызений совести? Но зачем же мне и злодействовать, зачем губить ближнего? Я буду только обманывать его, заставлять его служить мне, предоставляя и ему какие-нибудь выгоды, но только помня твердо, что своя рубашка к телу ближе, и, видя зло, угнетения, неправосудие, не вмешиваться не в свои дела, если меня не трогают. Так и думал XVIII век. Все писали и говорили о нравственности, и ни в ком не было нравственности, ибо никто не верил достоинству человека, великости его назначения.
Но ежели я верю, что я должен дать отчет в моей жизни, должен употребить ее на святой подвиг, как завещал это нам распятый за нас, – я могу и в таком случае заниматься мелочами жизни, быть пустым, даже злым человеком, но уже прости, счастие жизни, оно невозможно для меня, прости, счастливое самодовольство, я уже не могу обмануть себя. Так думает XIX век, ибо он, если еще не вполне уверился, то уже начинает верить в достоинство человека, в великость его назначения.
Весьма нетрудно приложить это понятие о «нравственности вообще» к «нравственности в литературе». Какое мне дело, что в романе или драме добродетельный погибает, а порочный торжествует? Если добродетельный боится пасть за правду, если он ропщет на провидение за то, что оно попускает торжествовать над ним пороку, он уже не добродетелен: он поденщик, просящий платы за труды, он любит добро не для добра, а из желания награды. Нет, если он добродетелен истинно, то благодари провидение за бедствие, лобызай карающую руку. Если во мне есть чувство добра, меня не испугает зрелище ужасов и страданий, вопль проклятий и богохулений, представляемых мне Евгением Сю, Бальзаком, Лакруа и другими, ибо царство доброго не от мира сего{2}.
Вот другое дело литература XVIII века, она не так глубока и ужасна; она, напротив, очень весела и снисходительна к слабостям человеческим, но зато и убийственна для чувства нравственности, соблазнительна и развратна. Эти сцены сладострастия, набросанные игривою кистию с чувством самоуслаждения, эти невинные экивоки, от которых закипает молодая кровь юноши и волнуется грудь девушки, – вот она, вот ядовитая отрава нравов! Это хорошо известно многим, которые, еще бывши детьми, читали философические повести Вольтера, contes en vers[3] Лафонтеня, «Кавалера Фобласа»{3} и другие chefs-d'oeuvres[4] XVIII века.