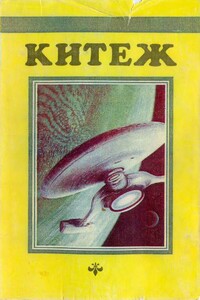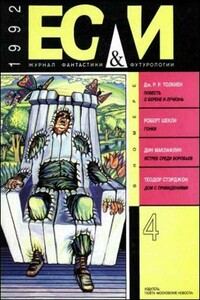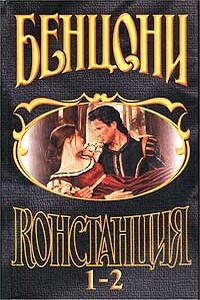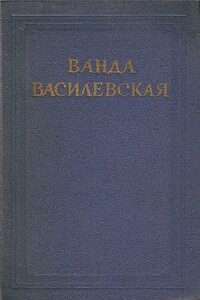Турманов вылез из танка последним — трое его солдат-помощников ушли в тыл полигона, в лощину, закрытую серой пирамидой командно-наблюдательной вышки; оттуда доносились голоса, но суетня на поле прекратилась, и Ермаков понял, что ротный уже собирает на последний перед стрельбой, стало быть самый важный, инструктаж. Следовало поторопиться и Ермакову, и все же, отойдя от машины, он остановился, наслаждаясь минутой одиночества, коротенькой освобожденностью от взоров подчиненных и начальников. Даже стеклянные глаза машин смотрят теперь мимо, и можно сдвинуть на затылок теплый, глухой шлемофон, расстегнуть пуговицу куртки, как бы отпустить пружину где-то там, внутри, потому что на службе командир — словно курок на взводе, а выведенный курок полагается время от времени спускать, чтобы пружина не устала и не случилось осечки.
Он медленно осмотрелся, машинально отмечая привычные ориентиры степного полигона — силуэт разбитого танка на скате далекого холма; согнутая ударной волной опора электролинии со спутанными клочьями проводов, похожая отсюда на женщину, в отчаянии заломившую руки, а рядом — смятый, с оторванным крылом и нелепо задранным килем бомбардировщик; неподалеку — бесформенный темный ком, будто спрут с искривленными в предсмертной судороге щупальцами, — лишь опытный глаз опознает в нем сбитый вертолет; пепельно-ржавая язва ожога на боку сопки, куда угодил, вероятно, снаряд особо разрушительной силы. Бесплодная земля, натурализованный портрет войны, извечно одинаковый следами разрушения и гибели, — к нему должен приглядеться, привыкнуть солдат на полях учений, чтобы в тот возможный час, к которому он готовится, жестокий и пугающий лик самой войны не лишил его уверенности и силы.
Ермакову нравилась окрестная степь — всхолмленная, тусклая, с ее простором и неограниченными маршрутами для скрытых маневров, обходов и охватов всякого противника, который повстречался бы здесь с его танками, но по утрам эта степь рождала в нем смутную тревогу: казалось, из затененных распадков, из серой полоски неба над ломаным горизонтом должно возникнуть что-то грозно-необъятное, чего он еще не знал. Ермакову больше была по душе вечерняя степь, когда растекается уютная темнота; ночью в степи он становился уравновешеннее, тверже, смелее.
Теперь из-за далеких, едва различимых гор вставало солнце — большое желтое пятно, притушенное степной дымкой, обманчиво мягкое, и Ермаков сморщился, представив, до чего свирепым станет оно через час-другой. Он вспомнил иное, далекое солнце, встающее из туманной, еще сыроватой тайги, а то и прямо из речной заводи, — будто зеркало, на которое и дохнуть боязно: вдруг затуманится и не согреет… И два следа — большой, мамин, и маленький, свой, — на росистой траве, густой и упругой. «Мам, а как называются цветы, синие, которые смеются?..» Слабая улыбка и голос, похожий на вздох: «Незабудки, сынок». «А можно, я буду их маргаритками звать? Бывают же цветы маргаритки?» — «Бывают, сынок, но здесь они не растут…»
Вспомнил, усмехнулся, застеснявшись сам себя, поправил ремень, еще раз оглядел машины.
Три танка стояли на ровной линии у белых столбиков исходного рубежа, слегка утопая гусеницами в желтой полигонной пыли, отчего казались чуть приплюснутыми. Стволы их орудий были мирно задраны в небо, крышки башенных люков откинуты — танки будто дремали без своих хозяев в рассеянном свете утра. Для стороннего глаза все в этих танках одинаково, кроме бортовых номеров, но Ермаков различал среди них и угрюмоватого старика, уже уставшего носить по земле свое многотонное тело, и машину среднего возраста, где все выверено, отлажено, безотказно — сажай в нее с ходу экипаж хоть из другого полка, и он будет как в своей собственной, потому что машина в том лучшем состоянии, когда «недуги молодости» вылечены, а «недуги старости» еще не нажиты. Третья была совершенно новая машина, на ней и краска лоснилась живее, и орудийный ствол ее задран как-то лихо, и заостренная грудь выпячена, словно у застоявшегося коня-трехлетка, готового во всякую минуту, ударив копытом, рвануться в степь…
Два первых танка тщательно приготовлены, прицелы выверены, как и положено перед стрельбой. Третий, новый танк имел… «дефект зрения».
Ермаков знал о нем, больше того, дефект этот был делом рук самого Ермакова — тайна, которая должна раскрыться после первого выстрела. Наводчики орудий его взвода — им поочередно стрелять из этого танка — обязаны выявлять самые коварные дефекты оружия быстро и безошибочно. Обязаны — в этом все дело!
Ермаков еще раз окинул взглядом новую машину, удовлетворенно улыбнулся.
Из люка соседнего танка показалась непокрытая черноволосая голова. Танкист вылез по пояс, перекинул снятый шлемофон с груди на спину, потянулся, будто после сна, жмурясь на низкое солнце.
— Петриченко! — сразу нахмурясь, окликнул Ермаков. — Почему задерживаетесь?
— Будьте покойны, товарищ лейтенант, поспею. На стрельбе, как и на обеде, без меня разве обойдутся?
Механик-водитель учебно-боевой машины Петриченко был хотя и трудяга, но хитрец, каких поискать. Танкисты дали ему прозвище «студент- расстрига», и, как всякое прозвище, оно говорило больше имени и фамилии. Петриченко бывал почтителен с прямыми начальниками, зато «несвоему» мог вежливо надерзить. Он наверняка задержался в машине под благовидным предлогом, чтобы избежать скучного инструктажа или работы, которая всегда сыщется для экипажей, не занятых стрельбой.