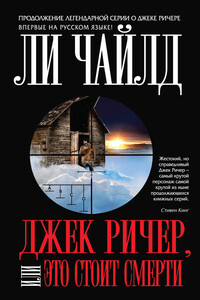Огромная комната — в детстве всегда все кажется огромным, все вокруг. Но комната и в самом деле велика, угловая комната большого старого дома — высоченные потолки, высоченные окна, растворенные настежь, из них столбами бьют солнечные лучи. Солнце просвечивает, зажигает оранжевый абажур, подвешенный на длинных шелковых шнурах, отражается в зеркальной двери гардероба, и медные дужки письменного прибора на столе плавятся и текут в его луче. Вся комната наполнена солнцем — ярким, но еще не яростным, еще предполуденным, еще только ласково-теплым, хотя все предметы уже теряют резкость очертаний, уже начинают растворяться в нем, желтеют и делаются мягкими, как масло. И две высокие, по углам стола, узкие, лебедино-тонкие вазы цвета первой травы кажутся еще тоньше, вот-вот они оторвутся и поплывут по воздуху, в искристой солнечной пыли.
Особенно густо течет солнце над самым полом, таль, где лоснятся дощечки паркета. Тут лучи становятся вязкими, тягучими, их можно зачерпывать горстью, макать в них палец. Но вот среди этих лучей появляется кошка.
Она идет по полу, как по луже, ступая медленно и встряхивая поднятыми лапами. Она встряхивает как бы мокрыми лапами, нюхает пол и, пригнув к нему голову, смотрит на меня. У нее зеленые глаза с длинными, торчком, зрачками, — стеклянно-зеленые, жестокие, звериные глаза. И пятнистая шерсть — вся в черных, рыжих и белых пятнах. И хвост — прямой, продлевающий линию спины, концом выгнут кверху. Она смотрит на меня, а я на нее, мы не в силах оторваться друг от друга.
Надо бы отпрянуть к стенке, тогда между нами окажется спасительная сетка кровати и пространство перед нею, но что-то меня толкает вперед, навстречу кошке. Я прижимаюсь к сетке, стискиваю в кулаке перекрестие-узелок и завороженно смотрю в узкие прижмуренные глаза. Мне и любопытно, и страшно — ведь в огромной комнате мы один на один, я и кошка.
Она крадется ко мне, взъерошенный пятнистый зверь,— она уже вот, рядом, надо крикнуть, кого-то позвать на помощь, но я по-прежнему молчу, только стискиваю узелок, веревочная сетка больно врезается в руку.
Вздыбив горбом спину, кошка распрямляется вверх — и теперь стоит, опираясь передними лапами на прогнувшуюся внутрь сетку. Еще чуть-чуть — и к моему носу прижимается ее нос, розовато-влажный, подергивающийся треугольничек с дырочками-ноздрями. И тут — стремительное, молниеобразное движение — и цар-рап!..
Это — первое, что я помню. Начало жизни, начало детства: солнце, солнце, солнце — и кошка, которая крадется в его лучах... Солнце и кошка.
Детство... Оно не прошло, не окончилось, не стало воспоминанием, давним, полузабытым — нет. Оно словно начальные кольца на срезе, самая сердцевина ствола.. Там, за навитой годами толщей дремлет нежное деревце, тонкий упругий прутик. Ветви, крона, ствол — все выросло из него.
Оно в каждом из нас, наше детство. Так же, как юность — чуть слышный, таинственный, из дальней дали доносящийся звон колокольчика, который и тоскует, и манит куда-то, и обещает, обещает...
Пока мы живы, они живут в нас — наше детство, наша юность... И, может быть, лишь до тех пор мы и живы, пока они — с нами...
Когда-то я твердо верил, что настоящие сказки — это те, которые не читают, а рассказывают. Но вот беда, рассказывать сказки моя бабушка не умела. И запомнилась мне всего одна-единственная, не прочитанная, а именно рассказанная. Если я особенно упрашивал, бабушка повторяла ее, и я затвердил эту сказку от слова до слова.
Впрочем, сказка ли то была?.. Хотя начиналась она как положено: «Жил да был...» И речь в ней шла про солдата. Но волшебное огниво или суп из топора?.. Их там не было и в помине. А я так этого ждал — всякий раз! Но там говорилось про другое.
Жил да был маленький мальчик. Жил он, поживал со своими родителями, а потом забрали его в кантонисты. А потом научили носить ранец, маршировать — ать-два! — и стрелять из ружья. Вырос мальчик и сделался солдатом. Послали его на войну. Там он храбро сражался, перебил много врагов, и дали ему в награду медаль «За севастопольскую оборону»...
— А потом?
— А потом отпустили домой. Воротился он в свои родные места, а тут, через двадцать-то пять лет, никого в живых не осталось, ни отца, ни матери. Вот подумал он, подумал — и поехал в город Астрахань...
— А потом?
— А потом стал он работать, женился, родились у него дети...
— А потом?
— А потом — суп с котом!
Вот так: «суп с котом»— и все. И сказке конец. Какая же это сказка?
Тем более, что на письменном столе, в проволочной рамочке-подставке — фотография, наклеенная на толстый картон и будто вымоченная в крепком чае: от виска к виску — седая пышная борода, на голове круглая черная шапочка, похожая на тюбетейку. Из узенькой щелочки между густыми бровями и плоскими широкими скулами настороженно смотрят маленькие пристальные глаза. Смотрят, будто ждут внезапной команды, приказа...
Это бабушкин отец, мой прадед — николаевский солдат. Тот самый, который «жил да был». Я знаю, что бабушка рассказывала мне про него, и все это правда: он служил двадцать пять лет, воевал под Севастополем, получил медаль и женился, но не на принцессе, как водится в каждой настоящей сказке, а на полковой маркитантке — там же, под Севастополем. Не было у него ни волшебного огнива, ни трех сундуков с монетами — медными, серебряными и золотыми. В Астрахани он выучился и стал портным.