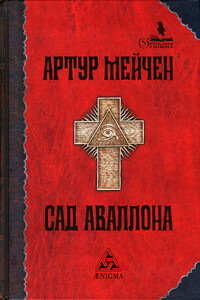Осенним вечером, когда бледно-голубая дымка скрыла уродство Лондона и его длинные, широко раскинувшиеся проспекты обрели красоту, мистер Чарльз Солсбери неторопливо спускался по Руперт-стрит, постепенно приближаясь к своему любимому ресторанчику. Он смотрел себе под ноги, пристально изучая мостовую, и уже почти добрался до узкой двери ресторана, когда на него налетел человек, подоспевший с другого конца улицы.
— Простите, — сказал мистер Солсбери, — я задумался и не смотрел по сторонам. Черт, да это же Дайсон!
— Совершенно верно. Как твои дела, Чарльз?
— Все в порядке. Но ты-то где пропадал? Я тебя, кажется, уже лет пять не видел.
— Да нет, поменьше. Помнишь, ты как-то навещал меня на Шарлотт-стрит — дела мои в то время шли совсем плохо?
— О да. Ты еще жаловался тогда, что задолжал хозяйке за пять недель и тебе пришлось по дешевке продать часы.
— У тебя замечательная память, милый Чарльз. Я переживал тогда действительно тяжелые времена. Но, что интересно, вскоре после твоего визита дела пошли еще хуже. Один мой приятель назвал мои попытки выкарабкаться «дохлым номером». Честно говоря, я не люблю жаргон, но точнее не скажешь... Однако нам стоит войти в эту дверь: мы загородили дорогу людям, которые тоже хотят пообедать — вполне извинительная человеческая слабость, не правда ли, Чарльз?
— Конечно, конечно, зайдем. Я как раз размышлял, не занят ли столик в углу — знаешь, там, где кресло с замшевой обивкой.
— Прекрасно знаю этот столик — он не занят. Так вот, как я уже говорил, дела мои пошли еще хуже.
— И что же ты предпринял? — спросил Солсбери, усевшись за стол; он пристроил свою шляпу и уже с предвкушением рассматривал меню.
— Что я предпринял? Сел и хорошенько подумал. Я получил прекрасное классическое образование, но не имел ни малейшей склонности к бизнесу любого рода. С таким капиталом мне предстояло выйти в мир... Представляешь, есть люди, которым не нравятся оливки. Жалкие дураки! Я часто думаю, Солсбери, что, пожалуй, мог бы написать гениальные стихи, будь у меня оливки и бутылка красного вина. Давай закажем кьянти — может быть, оно здесь и не слишком хорошее, но зато бутыль, в которой его подают, просто бесподобна.
— В этом ресторане хорошее кьянти. Можно заказать большую бутылку.
— Отлично. Итак, я обдумал свое безвыходное положение и решил избрать карьеру писателя.
— Правда? Вот уж действительно оригинальное решение. Однако у тебя вполне преуспевающий вид.
— Однако! Какое пренебрежение к благородной профессии. Похоже, Солсбери, ты не способен понять величия художника. Представь себе, я сижу за рабочим столом — ты вполне мог бы застать меня в этой позе, если бы потрудился зайти, — передо мной чернила и ручка, вокруг — пустота, а несколько часов спустя из ничего может появиться на свет творение!
— Совершенно согласен — я имел в виду, что литература — занятие неблагодарное.
— Ошибаешься, она всегда воздает за труды. К тому же вскоре после твоего визита я унаследовал небольшую ренту. Умер мой дядя, который перед смертью почему-то решил проявить щедрость.
— Ах, вот как. По-видимому, это было очень кстати.
— О да, весьма кстати. Должен заметить, что я воспринял это неожиданное наследство как своего рода стипендию для продолжения моих изысканий. Я только что отрекомендовался писателем, но, возможно, точнее было бы назвать меня исследователем. Право, Дайсон, ты действительно изменился за эти несколько лет. Я всегда считал тебя ленивым бездельником, бесцельно шатающимся по городу, одним из тех, кто с мая по июль проводит время, фланируя по тенистой стороне Пиккадилли.
— Верно. Я находился тогда в процессе становления, хотя и не осознавал этого. Ты же знаешь, мой отец был беден и не мог отправить меня в университет. Пребывая в невежестве, я злился, что так и не завершил своего образования. Заблуждения юности, Солсбери, не более того, моим университетом стала Пиккадилли. Именно там я начал изучать великую науку, которой предан и ныне.
— Какую науку ты имеешь в виду?
— Тайну огромного города, физиологию Лондона; и буквально, и метафизически это величайшая тема для размышлений, какая только может занимать человеческий разум... Что за бесподобное рагу — достойный конец для фазана!.. И все же — мысль о грандиозности и сложности Лондона иногда подавляет меня. Париж можно понять, если не пожалеть времени, но Лондон навсегда остается тайной. В Париже можно точно сказать: «Здесь живут актрисы, здесь — богема, а здесь — Rates[1]»; но в Лондоне все иначе. Ты назовешь какую-нибудь улицу обиталищем прачек — и будешь вполне прав, но при этом где-нибудь на втором этаже одного из домов найдется человек, изучающий исторические корни халдеев, а в мансарде напротив — всеми забытый, умирающий художник.
— Да, Дайсон, ты не изменился — и никогда не изменишься, — заметил Солсбери, смакуя кьянти. — Как всегда, тебя уносит на крыльях воображения: загадка Лондона существует только в твоих грезах. На мой взгляд, это обычный, скучный город! Здесь даже не бывает по-настоящему артистичных преступлений, которыми изобилует Париж.