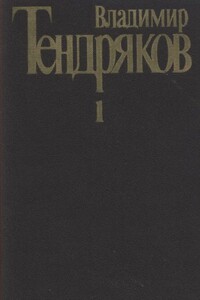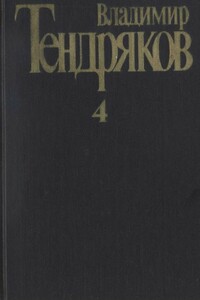1
Душной июньской ночью Комелев вышел из Сташинского сельсовета, где проводил заседание партактива, сел в машину, уткнул в грудь подбородок и задремал…
На крутом повороте у моста через реку Шору шофер вдруг почувствовал, что Степан Петрович всем телом мягко привалился к его боку. Шофер затормозил на мосту, испуганно тряхнул за плечо, сдавленным голосом окликнул. Комелев не ответил…
Врачи установили — инфаркт.
Секретаря райкома Комелева хоронили через два дня.
Вперемешку с невысоким соснячком стояли кресты и скромные деревянные обелиски с выцветшими фанерными звездами. Пока не пришел народ, на этом тихом сельском кладбище хозяйничал дятел, выбивал звонкую дробь, дурманяще пахло нагретой на солнцепеке земляникой.
В Коршуновском районе не было оркестра — люди молча обступили могилу, из которой тянуло влажным погребным холодком. Дятел спрятался и притих. Крепкий запах земляники как-то сам собой рассеялся.
Председатель колхоза «Труженик» Игнат Гмызин, вместе с другими несший гроб, осторожно освободил плечо от полотенца, смятой кепкой вытер лоб и бритую голову.
Гроб лег на край могилы. Комелев, тучноватый, важный, с большим желтым, мертвецки матовым лбом, лежал, накрытый по грудь, в своей черной гимнастерке, в которой его привыкли видеть при жизни.
Приминая влажный песок, поднялся на насыпь второй секретарь Баев. Его лицо было усталым, потным от жары, на подбородке заметно выступала щетина.
Игнат Гмызин, отступив в сторону, стал разглядывать собравшихся. И с покойным Комелевым, и с теми, кто его провожал, Игнат проработал много лет.
В изголовье гроба стоит шурин Игната, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома Павел Мансуров, плечистый, подобранный, как всегда щеголеватый — полотняный китель выутюжен, легкие сапоги лишь чуть припудрены пылью. Он уронил курчавую голову, хранит в статной фигуре торжественность.
За его спиной, подставив под солнце крепкий ежик рыжеватых волос, сутулился инструктор райкома Серафим Сурепкин. Сгорбленность, скорбная усталость на лице, даже торчащие просвечивающие уши — все означало, что он убит горем. Но Игнат знал: Серафим Сурепкин готовится выступить и, наверное, настраивает себя. Ни один митинг, ни одно совещание не проходили без выступления этого человека. Покойный Комелев звал его: «Серафим Златоуст».
Заслуженный учитель Аркадий Максимович Зеленцов, чопорно аккуратный в своем длинном стариковском пиджаке, с грустным спокойствием глядит прямо перед собой. О чем он думает сейчас? Может быть, о том, что он старик и ему тоже придет черед лежать так, лицом в небо, и бесстрастно слушать печальные речи; может быть, по своей привычке философствовать над всем, высчитывает, как коротка в масштабах вселенной человеческая жизнь.
Тут же, почти на голову выше старика, стоит его внучка, красавица Катя Зеленцова. Маленькая, гладко зачесанная девичья голова вскинута, бровастое лицо сурово, а большие глаза скрытно тревожны — она не привыкла видеть смерть близко, смерть пугает ее.
У ног гроба — семья покойного.
За юбку матери держатся дочери. Младшая, лет шести, не глядит на отца, озирается кругом. На заплаканном грязном личике не видно горя, оно выражает лишь испуг. А старшая, с пионерским галстуком на шее (ее вызвали на похороны из пионерлагеря), ткнулась под руку матери, плачет и плачет безудержно.
Сын Комелева, уже взрослый парень, в этом году кончающий школу, стоит прямо, поддерживает мать и не плачет. Но по его красным глазам можно догадаться, что плакал он дома, а бледное лицо, судорожно сведенные челюсти говорят — все свое горе выплакать не успел, сейчас зажал, спрятал его от посторонних.
Зато мать, повязанная по-деревенски белым платочком, концами вниз, держится на ногах, лишь вцепившись в сына. Лицо ее опухло от слез.
Она вышла за Степана Комелева, когда тот был еще простым крестьянским парнем. Он рос, она оставалась прежней, деревенской, любящей посудачить бабой, больше всего боявшейся, чтоб ее Степа не уехал без овчинной душегрейки в командировку. Она жила не его интересами, но для него — другой жизни не представляла. Чувствовалось: хочется ей завыть в голос, истошно, по-деревенски, по-бабьи выкричать горе, облегчить сердце, но разве можно — все кругом в чинном молчании стоят и слушают.
Игнат ошибся: после Баева вышел не Серафим Сурепкин, а шагнул к могиле и повернулся лицом к людям Аркадий Максимович.
Глуховатым, негромким и в такой обстановке удивительно спокойным голосом старый учитель заговорил:
— Я знаю о том, как Степан Петрович любил детей. Тот, кто любит детей, любит в людях будущее. Любить будущее людей — это даже больше, чем просто любить. Он любил вас, товарищи…
Слова Аркадия Максимовича словно разбудили Игната.
«Любил?.. А ведь правда!» Ему вспомнился этот неторопливый, несколько вяловатый в движениях человек. Приезжая в колхоз, он оставлял машину у обочины дороги и враскачку, медленным шагом обходил от поля к полю бригады. Никто никогда не слышал от него жалоб ни на больное сердце, ни на больные ноги. Ради людей, — да, прав старик, — ради их будущего он не жалел себя.
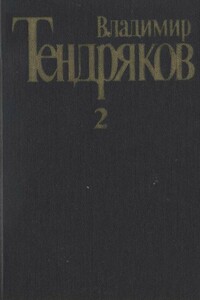



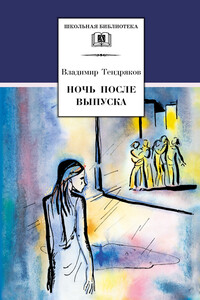

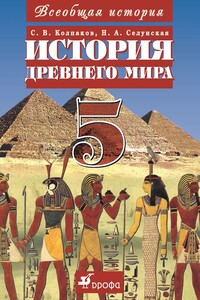

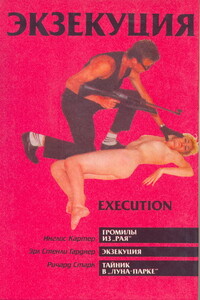


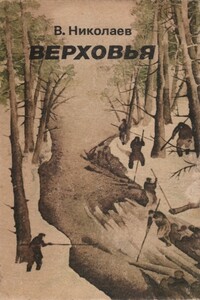
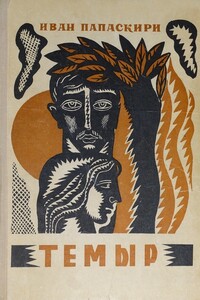

![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/storage/book-covers/05/05d9c1255e162c4d28377a44f7f614ec446ddd7b.jpg)
![Собрание сочинений. Том 3. Свидание с Нефертити : [роман]. Очерки. Военные рассказы](/storage/book-covers/6d/6d33c74004479594fc7801a6b05cf0cc46250a4b.jpg)