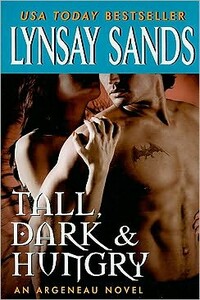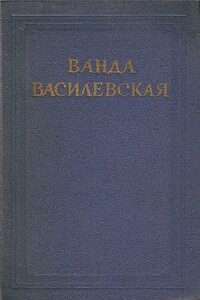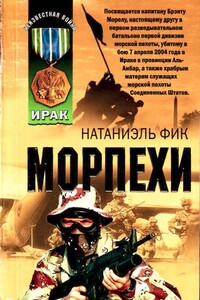…Машина мчала нас по удивительно веселой горной дороге, широкой, предупредительно выстланной асфальтом. Она мягко огибала зеленеющие еще листвой и хвоей холмы. И, кажется, слышен был даже тяжеловатый топот спускающихся гурьбой по откосу богатырских елей и важных — в позолоте — дубов. Машина останавливалась, притормаживала на центральных улицах, на площадях городов, у новехоньких сел, заводских селений, что с такой независимостью поглядывали на проезжих всей современностью своих прямых линий и ярких красок. Здесь и тротуары, и витрины магазинов выглядели не хуже пражских, братиславских. И прохожие одеты были, как в столицах.
Машина замедлила ход у одного завода — он еще только что выкарабкался из земли, хватаясь за нее огромными лапищами кранов; она задержалась у другого завода — тот уже гудит, дымит и дышит всеми своими трубами. Она оставила позади третью или пятую плотину, что так методично, шаг за шагом отбирают силу у горных потоков, передавая ее этим же заводам, городам и селениям. Она остановилась у подножья скалы, которая очень напоминает в сотни раз увеличенный постамент памятника Петру в Ленинграде. На самый кончик выступа этой скалы, а затем еще выше, на дозорную башню Оравского замка, стόит взобраться. Он, как огромный белый корабль, разрезает отсюда синеву воздушного моря и вот-вот подомнет зеленые волны горных гряд округи.
По стоптанным веками каменным ступеням, по трухлявым от времени деревянным лесенкам надо подняться наверх, чтобы вдруг воочию представить себе, как, становясь на гранитные ходули скал и крепостных стен, феодалы этой земли, а затем австрийские, венгерские губернаторы, в общем маленькие людишки, обладавшие лишь одним умением приобретать, — как они столетиями выращивали в себе надменное чувство своего превосходства. И отсюда уверенность в своем праве владеть.
Теперь машина стремительно мчится по долине обратно, потом за поворот, вниз, вверх. А у руля сидит невысокий, широкоплечий, мрачноватый человек. С проседью, средних лет. Он расстегнул ворот рубашки, откинул пиджак на заднее сиденье. То и дело переводит острый взгляд серых глаз с дороги на пригорок, на лес, на синеющий вдали перевал и как бы равнодушно бросает:
— Вон там воевал наш отряд…
— А там, видите? Памятник, братская могила. Наши и ваши. Вместе.
— А здесь немцы выжгли все. Ни одного дома в селе не оставили. Это… — своим упрямо выдвинутым вперед подбородком он показывает на почти городские строения, — это тоже новое!
Слова его звучат суховато. И борозды морщин, четко просеченные по всей ширине лба, от уголков глаз к щекам, от ноздрей к опущенным углам изогнутых губ, казалось, говорят только о порывистой решительности, о резкости характера этого человека. А человек этот — Ладислав Мнячко, известный писатель Словакии. И Чехии, конечно.
Но как хорошо, что совсем недавно я прочитала его небольшой лирический очерк. Такой сдержанный, нежный и печальный. Рассказ о старой усталой матери партизана. Она так и не смогла узнать, где похоронен ее сын. Приехала издалека и поздней ночью встретилась писателю у братской могилы. А может быть, единственный ее здесь?..
Как хорошо, что я прочитала еще один его рассказ. Тоже раздумчиво-печальный. На сей раз о простом молодом парне, что любил свой родной городишко, вместе с воинами Советской Армии прорывался к нему, песню о нем пел, мечтал о нем, пронес свою мечту сквозь десятки боев до самой границы, а здесь, на границе, погиб. И, может быть, потому, что над мечтой его любили посмеяться ребята из полка, она незаметно приросла к их сердцам. А когда война забросила одного из них, рассказавшего эту историю, в тот самый городок и он застал там развалины, эта мечта друга не дала ему уйти. Упрямое, горьковатое чувство мужской дружбы заставило его остаться здесь же, чтобы восстанавливать и строить.
И еще очень хорошо, что недавно мне довелось прочитать роман Ладислава Мнячко со странным названием «Смерть зовется Энгельхен». Закрыв последнюю страницу этой книги и вернувшись по привычке к первой, я, по правде говоря, удивилась, что ее назвали романом. Мне послышалась в ней страстная, раздраженная и добрая, непримиримая и любящая, озадаченная и утверждающая исповедь человека с чувствительнейшим, обнаженным нервом гражданской совести. Я услышала в ней подлинный рассказ партизана, раненного в последней схватке с фашистами в позвоночник, но все-таки выжившего. Его разбил паралич, но, может быть, вынужденный покой особенно остро дал ему ощутить, опять-таки совестью, все, что было, все, что происходит вокруг, все, что может еще случиться. И рассказывает он об этом, иногда воспроизводя событие, иногда страстно убеждая себя, других, иногда лишь намекая на то, что нет уже силы изображать, иногда вдаваясь в детали, о которых можно бы и не говорить. Его гложет ни на минуту не затихающая боль о былом: о бессмысленной гибели русского парня — командира отряда, — с которым он делил горе и счастье тех великих дней отмщенья; о сожженном немцами хуторе, который пришлось после долгой стоянки отряда оставить. Потому что война требовала. Потому что кольцо преследования сжималось. Потому что в чем-то ошибались. А фашисты палили, вешали, бросали собакам на растерзание беззащитных людей. Тех, кто месяцами, не заботясь о своей судьбе, давал партизанам ночлег, пищу, человеческое тепло.