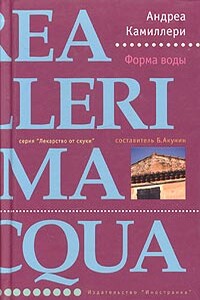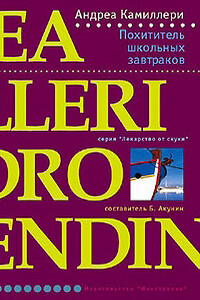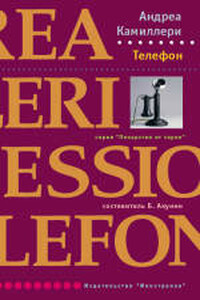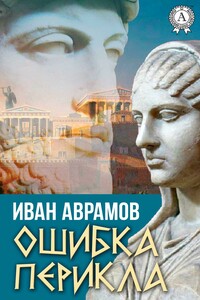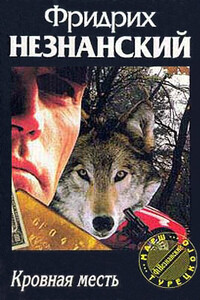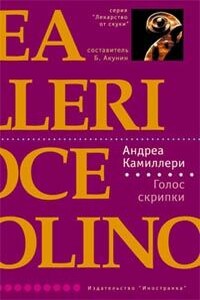Он приоткрыл глаза и тут же зажмурился.
Уже давно с ним такое происходит: не хочется просыпаться, но не потому, что надо досмотреть что-то приятное – приятное снится все реже. А чтобы подольше оставаться в темном, глубоком и теплом колодце сна, на самом дне, где никто не сможет его отыскать.
Но он знал: сон уже ушел. И тогда, не открывая глаз, стал слушать шум моря.
В то утро море слегка шелестело, подобно листве, в мерном ритме, говорящем о спокойствии прибоя. День обещал быть погожим и безветренным.
Комиссар открыл глаза и посмотрел на часы. Семь утра. Приподнялся – и вспомнил, что видел сон, от которого в голове остались лишь разрозненные путаные картинки. Прекрасный предлог, чтобы еще немного потянуть с подъемом. Снова лег и прикрыл глаза, пытаясь восстановить последовательность рассыпавшихся кадров.
Рядом с ним по просторной, поросшей травой пустоши идет женщина; он понимает, что это Ливия, но это не она, хотя и с лицом Ливии: тело чересчур пышное, с необъятными бедрами, так что она с трудом передвигает ноги.
Он и сам ощущает усталость, будто после долгой прогулки, хоть и не помнит, сколько они уже в пути.
Он решается спросить:
– Далеко еще?
– Уже устал? Даже ребенок не устал бы так быстро! Мы почти пришли.
Голос не такой, как у Ливии: грубый и слишком резкий.
Еще шагов сто, и они оказываются перед распахнутыми коваными воротами. За воротами все та же травянистая пустошь.
Откуда и зачем здесь ворота, если, куда хватает глаз, не видно ни дороги, ни дома? Монтальбано хотел было спросить у женщины, но не стал, чтобы не слышать ее голоса.
Ему кажется нелепым проходить через ворота, которые никуда не ведут, и он делает шаг в сторону, чтобы обойти их.
– Нет! – восклицает женщина. – Что ты делаешь? Это запрещено! Господа могут рассердиться!
Резкий голос оглушил его. Какие еще господа?! Но Монтальбано подчиняется.
Едва они оказываются за воротами, пейзаж преображается: вместо пустоши – скаковое поле, ипподром с дорожками. Но зрителей нет, трибуны пусты.
И тут он замечает: вместо ботинок на нем сапоги со шпорами, костюм как у заправского жокея, под мышкой – хлыст.
Мадонна, да что им от него нужно? Он в жизни не ездил верхом! Может, разок, лет в десять: дядя тогда взял его с собой за город, где…
– Садись на меня, – раздается резкий голос.
Он оборачивается и смотрит на женщину.
Это уже не женщина, а почти что лошадь. Она стоит на четвереньках, но копыта на руках и на ногах не настоящие, а сделаны из кости и надеты наподобие тапочек.
На ней седло и удила.
– Садись верхом, ну же! – снова говорит женщина.
Он садится; та пускается вскачь, бешеным галопом. Тапатам, тапатам, тапатам…
– Стой! Стой!
Но та несется все быстрее. Тут он падает, левая нога застревает в стремени, кобыла ржет, нет, хохочет, хохочет, хохочет… Наконец кобыла со ржанием встает на дыбы, он выпутывается, и она скачет прочь.
Как ни старайся, больше ничего не вспомнить.
Комиссар открыл глаза, встал, подошел к окну, распахнул ставни.
Первое, что он увидел, была лошадь, неподвижно лежавшая на песке, завалившись на бок.
Сперва он зажмурился. Подумал, что все еще видит сон. Потом понял: лошадь на песке – настоящая.
С чего бы ей подыхать перед домом комиссара? Наверняка, падая, лошадь издала слабое ржание, и этого хватило, чтобы ему пригрезился сон о женщине-кобыле.
Он высунулся в окно, осмотрелся. Ни души. Рыбак, который каждое утро уплывает на лодке, превратился в черную точку на горизонте. На твердом влажном песке ближе к морю – следы копыт. Откуда идут, не видно.
А лошадь-то явилась издалека.
Комиссар быстро натянул штаны и рубашку, открыл дверь на веранду и вышел на пляж.
Подошел, пригляделся. Внутри все заклокотало:
– Подонки!
Животное было залито кровью, череп проломлен железным прутом, по всему телу – следы долгих жестоких побоев. Тут и там зияли глубокие рваные раны. Очевидно, истерзанной лошади удалось вырваться из рук мучителей и она скакала очертя голову, пока не выбилась из сил.
Комиссар был вне себя: казалось, попади ему в руки один из истязателей, того постигла бы та же участь. Он пошел по следу.
Иногда цепочка следов прерывалась и вместо нее на песке виднелись отпечатки колен: бедное обессиленное животное припадало на передние ноги.
Спустя почти три четверти часа он наконец добрался до места истязания.
Песок здесь был истоптан и изрыт, подобно цирковой арене, и испещрен следами ботинок и копыт. Недалеко валялись лопнувшая длинная веревка, на которой держали лошадь, и три железных прута в пятнах засохшей крови. Комиссар попытался сосчитать разные отпечатки ботинок, но это оказалось непростым делом. Он предположил, что в истязании участвовали не более четырех человек. Еще двое стояли в сторонке и, покуривая, наблюдали за происходившим.
Вернувшись домой, комиссар позвонил в участок.
– Алё? Это…
– Катарелла, это Монтальбано.
– Ах, синьор комиссар, это вы! Что стряслось, синьор комиссар?
– На месте Ауджелло?
– Никак нет, еще в отсутствии он.
– Если есть Фацио, соедини меня с ним.
– Сиюмоментно, синьор комиссар.
Прошло меньше минуты.
– Слушаю, комиссар.
– Фацио, срочно приезжай ко мне в Маринеллу и захвати с собой Галло и Галлуццо, если они на месте.