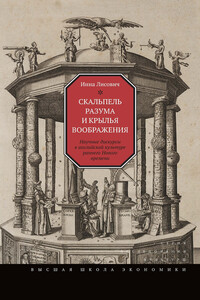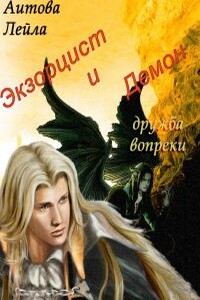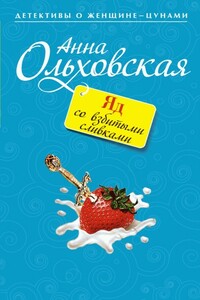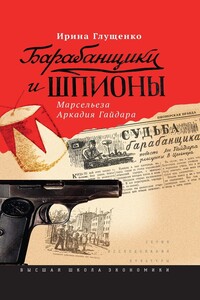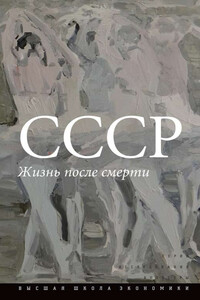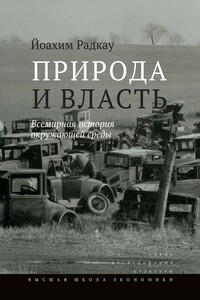Сегодня трудно представить себе диссертацию о полупроводниках или о рождении сверхновой звезды, написанную на языке поэзии или риторики, в виде ученого трактата либо диалога. Хотя наблюдается обратная тенденция: современное искусство стремится вернуть себе утраченный синкретизм, научно-образовательное пространство – диалогизм, а наука использует виды искусства, художественную эстетику и возможности воображения для репрезентации своих идей и открытий[1]. Сейчас ученые стремятся вернуть утраченный синтез познания, которое разделено на религиозное, гуманитарное, социальное, художественное и естественно-научное[2].
П. Фейерабенд провозгласил основой научных открытий воображение ученого. Это породило интерес к дискурсивным границам, взаимодействию собственно художественных и иных знаковых форм, в раннее Новое время существовавших в едином социокультурном контексте благодаря тому, что астрономию, математику, риторику, поэзию относили к свободным искусствам. Дюрер причислил к ним и живопись, а Везалий – медицину. Соединение в одном тексте научной информации и художественного воплощения стало возможным благодаря восприятию мира, в основе которого лежала неоплатоническая идея зримой гармонии и красоты, а также переосмысление таких способностией души, как зрение и воображение.
На научную репрезентацию новых идей оказывали влияние теология, риторические и поэтические практики этого времени. Существенное отличие современного состояния науки от науки XVI–XVII вв. заключается в том, что научная терминология только складывалась и мигрировала из одного дискурса в другой, не существовало жестких дисциплинарных границ не только между отраслями собственно научного знания, но и между всеми свободными искусствами. Современное, узкоспециализированное знание о мире и человеке, освободившись от теологического влияния и церковной опеки, благодаря опыту и наблюдению за природой раскрыло многие загадки мироздания и обрело свой язык в терминологической точности. Но вместе с религиозностью была утрачена синкретичность, сакральность знания и соответствующий им язык тропов[3]. Истоки этого процесса – в XVI в., который многие из современных фундаментальных наук считают временем своего рождения из философии и теологии[4].
В XVI–XVII вв. наблюдается активное «переписывание» и «присвоение» поэзией, живописью и графикой научных дискурсивных практик, что сопровождалось как скептическим отношением к опытному знанию, так и формированием идей Просвещения, основанных на математическом рационализме и сенсуализме. Это был уникальный период, когда поэзия, драматургия, живопись и графика, популярные жанры эмблемы и аллегории, вбирают в себя научные идеи и язык, а наука еще обращается к эмблеме, риторике и языку поэзии в предисловиях, посвящениях к научным трудам. Нередко сами ученые пишут поэмы на научные темы и разрабатывают изображения на фронтисписах к своим работам, чтобы отразить идею книги. Размывание дискурсивных границ было связано со стремлением, с одной стороны, показать красоту видимого мира, а с другой – преодолеть средневековую корпоративную замкнутость научного знания.
Проникновение научных дискурсов в культуру Англии и Европы раннего Нового времени обусловлено рядом факторов: формированием дискурсивно-методологических оснований, научных практик и институций, ориентированных на открытый доступ к новому знанию обычных людей. Но они не пассивно воспринимали открытия и демонстрируемые эксперименты, а подвергали их рефлексии, артикулировали в своих терминах и вписывали в личный опыт бытия, и благодаря этому возрастала степень доверия к науке. С другой стороны, уровень критической рефлексии по поводу науки в культурном пространстве, степень экспансии научных терминов в обыденный язык, восприятие изобретений и открытий в искусствах, которые мы сейчас называем художественными, является маркером доступности и понятности знания, доверия к ученым, научным институциям и знанию, производимому ими.
Сегодня, несмотря на очевидные успехи науки, эпоха правления ученых, о которой говорили гуманисты и философы раннего Нового времени, так и не наступила. Научные институции в силу кризиса рациональной идеологии Просвещения[5], усложнения структуры научного знания и закрытости по политическим, идеологическим, экономическим, бюрократическим и дискурсивным причинам, описанным Ю. Хабермасом[6], оказались под угрозой социальной изоляции. Проводимые в мире социологические опросы показывают динамику интереса к науке за последние десять лет, причем основные проблемы связаны с недостаточной информированностью в открытиях и непониманием логики научного исследования[7].
Ученые опять пытаются преодолеть закрытость научного знания, используя возможности современных школьных и университетских образовательных программ и массмедиа, от традиционных научно-популярных изданий, телепрограмм, специализированных телеканалов, до открытых лекториев, научно-образовательных, научно-просветительских и научных сайтов, ресурсов и платформ в Интернете, привязанных к социальным сетям; детской анимации и программ для детей, игр, художественного и документального кино, которые предоставляют возможность обычному человеку понять историю науки, современные теории, открытия ученых, логику изобретения, специфику научной деятельности. Ю. Хабермас отмечает, что изложение научных открытий обычным языком оказывается необходимым и для самих ученых, разделенных дисциплинарными барьерами