Скальпель разума и крылья воображения - [5]
Как отмечает М. Л. Косарева, этот термин не передает необходимых смысловых нюансов, поскольку «те, кто закладывал основы науки Нового времени, сами называли себя “виртуозами”, “натуралистами”, “натурфилософами”, “энтузиастами экспериментальной философии”»[34]. В XVI–XVII вв. преобладали художники-универсалы и интеллектуалы[35], которые предпочитали называть себя «виртуозами»[36]. Но и слово «виртуоз» уже устаревает в английском словоупотреблении к середине XVIII в., поскольку ученые стали назвать себя в соответствии с избранной наукой либо с методом научной деятельности натурфилософами или естествоиспытателями. Термин «ученый» закрепился за представителями точных и естественно-научных дисциплин с середины XIX в. Такое словоупотребление сохраняется до сих пор, и мы придерживаемся его в данной работе.
Погружение в более широкий культурный контекст дает совершенно иное представление об историческом периоде и позволяет открыть иные векторы развития научных практик и представлений, включающие неоплатонизм, витализм, алхимию, герметизм и христианскую теологию: «Мы нуждаемся в некотором смысле относительности дескриптивных словарей времен, традиций и исторических случайностей. Именно это делает гуманитарная традиция в образовании, и именно этого не может сделать обучение результатам естественных наук»[37]. Таким образом, благодаря обращению к культурному контексту развития науки можно исследовать существовавшие научные дискурсы и практики раннего Нового времени с позиций их рецепции и интерпретации современниками.
Художественное слово и визуальные образы раннего Нового времени обладают огромной смысловой емкостью, поскольку откликаются на теологические, социальные, политические, научные, философские дискуссии эпохи, что требует их реконструкции, с которой не всегда справляются и комментаторы. Риторически, поэтически и драматически окрашенная художественная речь всегда имела конкретного адресата и была привязана к социокультурной и исторической реальности, сохраняя установку на подчинение косной материи языка благородной форме. Поэты, драматурги и художники, обращаясь к друзьям, возлюбленным, покровителям и прихожанам, апеллируют к узнаваемым ими библейским, поэтическим, теологическим, натурфилософским топосам своего времени, что часто порождало появление похожих образов в разных жанрах.
Поэтому важно понять, при каких социокультурных условиях возник тот или иной художественный концепт, кому предназначено послание и где, с какой целью оно актуализируется. Нужно говорить не об эпистеме или «наложенных друг на друга эпистемах» (так как последнее высказывание демонстрирует модернизацию культуры), а о проникновении научных дискурсов раннего Нового времени через христианские представления Средних веков, откорректированные неоплатонизмом. Старое знание не выбрасывается, часто в него встраивается новое. Более того, оно служит основанием и авторитетом для нового, тогда как описание дискурсивной практики, редуцированное к прогрессу знания, нарушает принцип историзма, нивелирует жанровую специфику отдельного произведения, унифицирует живой поэтический образ. Тем не менее осторожное и точное использование методов позволяет раскрыть произведение через актуальный ему культурный, исторический, социальный и интеллектуальный контексты.
Поэтому важно представить научное знание с позиций XVI–XVII вв. с учетом критериев «тогдашней научности» и определить важные смысловые центры и коммуникативные площадки, где транслировалось новое знание, актуальное для англичан, не принадлежащих к научному сообществу, которые встраивали свое личное бытие в изменяющуюся картину мира.
Неоплатонизм в раннее Новое время не только в Европе, но и в Англии становится тем дискурсивным полем, влияние которого синхронно распространяется на научные, художественные тексты и практики, что приводит к разрушению когнитивных и дискурсивных границ между ними, установленных схоластами. Платоновская Академия с ее дискурсом свободного обмена мнениями, в котором принимали участие философы, их ученики, афиняне, политики, медики, поэты и т. п. стала примером для создания нового типа открытых научно-образовательных коммуникативных площадок, где обсуждалось знание нового типа, благодаря чему оно проникает в культурные практики.
Данные положения наиболее продуктивно раскрыть, выявив точки совпадения художественных и научных дискурсов, поскольку поэзия, драматургия, живопись и риторика часто выполняют функции эстетического, культурного, социального, политического и медиатора, и эпистемологического маркера эпохи.
Вышеизложенные проблемы определили структуру книги.
В первой главе анализируются дискурсивно-методологические основания нового знания, в частности влияние идей Платона и неоплатоников на пересмотр статуса зрения, воображения и памяти как когнитивных способностей, которые легли в основу познания и трансляции знания в Европе раннего Нового времени. В связи с этим научные институции вырабатывают особые технологии доступности и достоверности знания, благодаря чему опыт и наблюдение были признаны в качестве доказательства. Посредством утверждения математики и геометрии как выразителей мира идей в искусстве и науке особое значение придается точности отображаемого мира вещей, поэтому меняется и восприятие основного объекта изучения – «тела». Неоплатонизм в раннее Новое время оказывается аргументом против средневековой схоластики и перипатетики не только в научных текстах, но и художественных, что оказывается основой для разрушения когнитивных и дискурсивных границ. В связи с этим переосмысляется дискурс пользы относительно всех свободных искусств, чья высшая цель – не только спасение человека, но и благо общества, нации и государства.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издание является первым полным русским переводом двух книг выдающегося американского литературоведа Хэролда Блума, представляющих собой изложение оснований созданной им теории поэзии, в соответствии с которой развитие поэзии происходит вследствие борьбы поэтов со своими предшественниками.
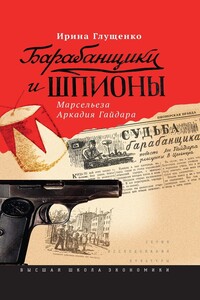
Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара (1938), «Дар» Владимира Набокова (1937) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (1938). Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской войны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет уловить дух времени конца 1930-х годов.
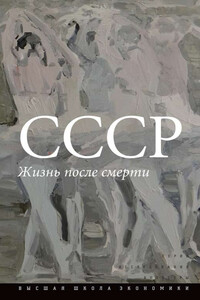
Книга основана на материалах конференции «СССР: жизнь после смерти» и круглого стола «Второе крушение: от распада Советского Союза к кризису неолиберализма», состоявшихся в декабре 2011 г. и январе 2012 г. Дискуссия объединила экспертов и исследователей разных поколений: для одних «советское» является частью личного опыта, для других – историей. Насколько и в какой форме продолжается жизнь советских социально-культурных и бытовых практик в постсоветском, капиталистическом обществе? Является ли «советское наследие» препятствием для развития нового буржуазного общества в России или, наоборот, элементом, стабилизирующим новую систему? Оказывается ли «советское» фактором сопротивления или ресурсом адаптации к реальности неолиберального порядка? Ответы на эти вопросы, казавшиеся совершенно очевидными массовому сознанию начала 1990-х годов, явно должны быть найдены заново.

Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постчеловек» – альтернатива для эпохи радикального биотехнологического развития, отвечающая политическим и экологическим императивам современности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентированную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как антропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому постгуманизму, который она определяет как философию медиации, изучающую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией.
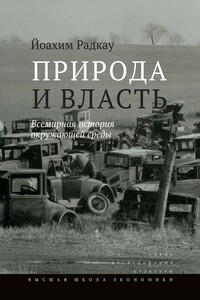
Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.