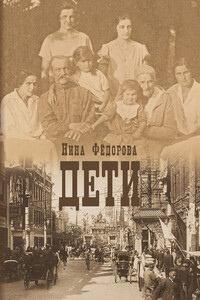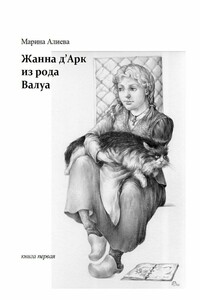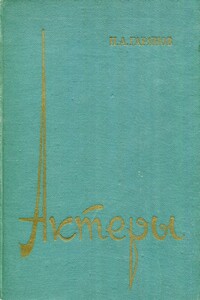В Харбине мы имели своего шпиона, лично приставленного к нашей семье. Это произошло из-за дяди. Наш дядя был военный, но с годами он охладел к войнам и занялся изучением Отцов Церкви. Как-то раз, случайно, прочел он житие св. Симеона Столпника и был потрясен прочитанным. Поэт в душе и стратег по образованию, он по достоинству оценил раскрывшуюся ему картину многолетней борьбы с самим собою из-за своей души. Он был восхищен драматизмом положения, где враг — невидим, а приз воображаем, где — поле битвы, нападающий, орудия, враг, отступление и наступление, все это — сам же подвижник. Чтение житий и поучений сделалось единым занятием и единой страстью дяди. Он стал неудержимо завидовать жизни подвижников и аскетов. Пустынное житие стало его мечтой.
— Да… Если бы знать это раньше! Ушел бы я в молодости в пустыню, выкопал бы пещерку и стал бы спасаться… вдали от житейской суеты в тиши, в посте в подвиге, в уединении.
Мало по малу мы все заразились его энтузиазмом.
По вечерам, бывало, сидим все за работой, а дядя нам из «Отцов Церкви» читает:
«Ум блуждающий устанавливают — чтение, бдение и молитва. Похоть пламенеющую угашают алчба, труд и отшельничество. Гнев волнующийся утишают псалмопение, великодушие и милостивость». Тетя первая начинала вздыхать, а за нею и все остальные.
…«Бегающий мирских удовольствий есть башня, неприступная для демона печали»…
Тетя вытирала набежавшую слезу. И мы плакали. Нас по молодости более всего трогала высокая поэзия чувств и выражений. Трудно было сохранять спокойствие, когда дядя вдохновенно читал:
«Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих подвигшееся сердце мое, яко свят еси и Господь».
Тетя откладывала в сторону работу, (она перелицовывала дядину куртку), слезы мешали ей работать. Эта генеральская куртка перелицовывалась в пятый раз. Все из нее выносилось — и цвет, и покрой, и фасон, — оставалось лишь добротное военное сукно. Оно бросало вызов и войне, и революции, — оно не изнашивалось. Оно казалось неисчерпаемым, так как с годами дядя делался все меньше и меньше, и тетя могла варьировать фасон, сколько угодно. За тетей и мы все откладывали работу. Начинался разговор. Нам всем хотелось уйти в пустыню и, сузив жизнь до одного лишь попечения о спасении души, неустанно петь псалмы и читать кафизмы.
Но уйти не удалось. В Харбин пришли японцы. Русское население было поставлено на учет. Дядю, как военного специалиста, стали вызывать то в штаб японский, то в полицию, но он от всякой активности отказывался. И с прежними товарищами по оружию пошли споры. Они ему о войне, а дядя им о любви к ближнему. Они о стратегии, а дядя от Писания. Они о сотрудничестве с японцами, а дядя о спасении души.
— Представляется случай большевиков сбросить…
— Не я их сажал, не мне их сбрасывать.
— Переменить власть…
— Одна есть в мире власть Божия. Ее не перемените.
— Полно! Тут на земле есть тоже…
— А на земле «несть же власти, аще не от Бога»… Заслужили и получили. Замолим грехи, Бог помилует, без моих и ваших трудов низложит. Россию не завоевывать с японцами надо, а вымаливать у Бога… Что может сделать японец без Божьего соизволения?
— Но жить невозможно…
— Поскольку главное занятие христианина есть спасение души, то большевики тут ничему не мешают. Наоборот, способствуют.
И в «кругах» решили, что дядя перешел на сторону большевиков, душу продал коммунистам, работает, как советский агент, получает приличное жалование и, отныне, он — человек подозрительный и опасный. Тетя плакала от этих слухов. Нас дразнили в школе. Приходили анонимные письма с угрозами. Но дядя лицом был светел, душой спокоен и готов к мученичеству. Тут-то и приставили к нам шпиона.
Мы его обнаружили утром. Из окна увидали. Сидит человек на скамейке у входа: воротник поднят, шляпа на глаза надвинута, в руках записная книжка и карандаш наготове. Мы решили, что это поэт, и не надо ему мешать: вот, ведь, с каким трудом пишет, за два часа ничего не написал. Но когда дядя вышел на прогулку, то шпион, быстро записал что-то, выскочил, как бы ударенный электрическим током, и, засунув руки глубоко в карманы, пошел за дядей какой-то необыкновенной, крадущейся походкой. Дядя был неутомимый ходок. Не имея никакой службы, он в ходьбе тратил свою энергию. Закаленный в походах, он был необычайно вынослив. Углубившись же в размышления о «Поучениях Отеческих», он, забыв себя, мог ходить часами. Когда дядя возвратился с прогулки, шпион едва плелся за ним, вспотевший, еле живой; от его прежней стилизованной походки ничего не осталось. Конечно, мы не сразу поняли, что это — шпион, но так как это хождение за дядей и записывание повторялось, то и сомнений уже быть не могло.
Шпион был русский молодой человек, с лицом решительным и взглядом нахмуренным. Но была в нем какая-то детскость, что-то наивное и голодное, что-то честное и старательное. В своей должности, очевидно, неопытный, он играл ее добросовестно, следуя лучшим образцам детективного искусства, как его понимают в кинематографе. Он наполнил нашу жизнь.
— А вы видели шпиона? — спрашивали мы у приходящих.
— Наш собственный. За дядей следит.