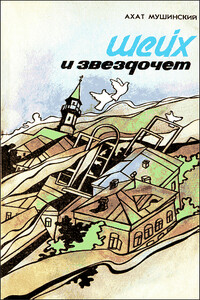1. Соседи
В своей летней резиденции, старом скособоченном сарае, Шаих просыпался чуть свет и подолгу наблюдал, как сквозь прощеленные стены сочится утро, озирал свое добро — радиорухлядь, натасканную с плюшкинской запасливостью, прислушивался к возне на голубятне над головой, воркованию, попискиванию…
Еще солнце не показывалось из-за яблоневых садов, а он уже подымался на крышу, и стая его белокрылых голубей взлетала.
В такие ранние часы Шаих не оглашал округу разбойничьим свистом — лишь помахивал ивовым таяком с тряпицей на конце, шугая ленивцев, норовящих воротиться обратно на лаву. Круг за кругом птицы набирали высоту, вспыхивали крохотными трепещущимися блестками в лучах пока еще незримого солнца, и он щурил глаз, чесал затылок и, сплюнув с верхотуры, с видом человека, постигшего какую-то непостижимую истину, отставлял таяк и спускался на грешную землю дела делать.
Дел у него всегда было невпроворот. Прежде всего он готовил для летающей гвардии завтрак, опять лазил по голубятне, наполнял кормушки, заботливо ощупывал севших на гнезда птиц, убирал под насестами… Потом часок-другой задумывался с паяльником в руках над какой-нибудь мудреной схемой или шарил отверткой во внутренностях какого-нибудь доходяги-приемника, воскрешая его для очередного и бесконечного просителя.
Справившись со своими делами, Шаих принимался за обязаловку. Тут уж — таскал ли воду в сад с колонки через дорогу, перекладывал ли оскудевшие за зиму поленницы в сарае — начинал поспешать, потому что поджимало время, которого перед школой (мы учились во вторую смену) никогда и никому из нас не хватало.
Но нередко заутреннее солнце заставало его уже далеко от дома — на Волге или Казанке, а то и за десятки километров на Меше с удочками у какой-нибудь богом забытой излучины. Рыбалка для него была тоже делом.
Не знаю, что представлял бы из себя Шаих теперь, но тогда, на перевале пятидесятых-шестидесятых годов, в сущности, еще подросток, он при всей взрослости в манерах был откровенно угловат, тощ, однако, как сказал про него Ханиф, — туг в кости. Проще высказалась Юлька, заметив ему однажды: «Ты страшно некрасив, но страшно любопытен». Это ей, стало быть, Юльке, любопытен. Первое «страшно» она, конечно, ради красного словца ввернула, а так, и в самом деле, его внешность никого не оставляла равнодушным: на стебельке шеи лобастая тыквина, челку «корова лизнула», как ни приглаживай, стоит забориком; из-под ершистых бровей колют всех без разбора то карие, то желтые — в зависимости от настроения ли, или от погоды — глаза. Его сразу, после первой же встречи, или принимали, или не терпели — хронически и навсегда.
А я и любил, и не терпел, и — по прошествии лет стало ясно — затаенно, с какой-то дотошной пытливостью наблюдал. Да, наблюдал. Может, это и было моим единственным призванием тогда. Ничем другим я не отличался. И вот, спустя годы, память раз за разом возвращает мне моего друга, наш дом, нашего одинокого ученого соседа, в каморке которого прошла половина той, далекой жизни, возвращает других милых сердцу людей и немилых тоже, и врагов среди них, и какие-то случайные обрывки фраз, жесты, лица, голоса… Они роятся в голове, гудят, живут своей независимой жизнью и при всем желании никак в ту их жизнь не вмешаться.
Стою на бывшей нашей улице. Сколько лет прошло! Где дом и необъятный, как само детство, двор? Где голубятня, яблоневый сад? Где мой друг и где я сам, его вихрастый кореш? Где тот, небритый и нескладный, к кому мы с ним так тянулись? Где та, синеглазая с походкой балерины, в которую мы без ума были влюблены? Нет, ничего и никого уже нет. Только память. Вон взмыли, разрезая тишь утра, белоснежные голуби — почтари, турманы, якобинцы… Но это не те, не друга моего птицы.
С его появлением мое детское сознание как бы окончательно пробудилось. И уж больше не было зияющих провалов в памяти, когда тебе отец-мать что-то рассказывают из твоей же жизни, а ты не помнишь.
Появился он леденяще-холодным декабрьским утром. Несмотря на стужу, народу во дворе набилось — не протиснуться. Люди молча взирали, как служилые в шинелях с красными лычками на погонах поднимали на обледенелое крыльцо-боковушку гроб. У чернеющего дверного проема голосила махонькая простоволосая тетка. Платок сбит на спину, а к юбке меж пол распахнутой, на рыбьем меху кацавейки пристыл мальчик моих лет.
Это и был Шаих.
Он беззвучно плакал в подол матери. Его не замечали. Мимо пронесли отца, затем какие-то лавки, табуреты… Мать ринулась вслед, мальчик побежал за нею, но на крутой лестнице, ведущей на второй этаж, отстал, потерянно забился в угол чужого коридора, полного тьмы и неизвестности.
Тогда-то моя мама привела его к нам, будущим соседям. Всего на этаже было четыре комнаты с общей кухней и огромной русской печью. В одной жила незаметная и неслышная пожилая бездетная пара, в другой — одинокий ученый Николай Сергеевич Новиков, а в двух оставшихся должна была поселиться наша семья — отец, мать, брат, сестра и я, — но мы и въехать не успели, как уже были потеснены. «Временно, — объявил представитель исполкома, — экстренный случай». Так, за день до прибытия еще одних соседей, у которых «экстренный случай», мы разместились в одной комнате новой для нас квартиры.