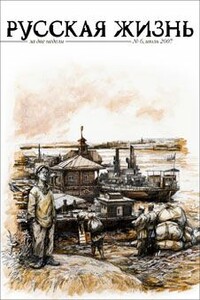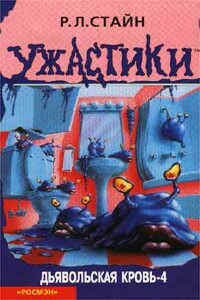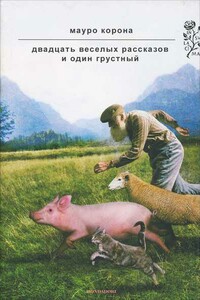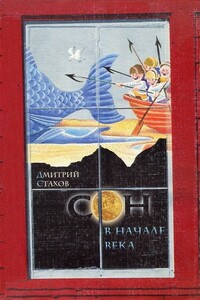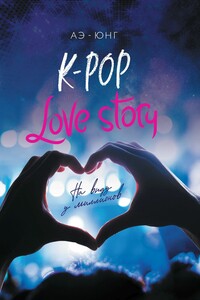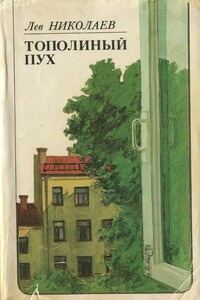Танька — страшилище редкое: огромная, круглая, волосы черные, ежиком, на носу треснутые очки и прыщик. Есенина читает с выражением, в глазах — больших и темных, серьезность неимоверная, как у самки крупного жвачного животного. Да и сама вся мощная, неповоротливая, везде ей тесно, все ей по пояс, редко кто по плечо. Ноги у нее, как у рояля, толстые, кривые. Широкие бедра переходят в огромную грудь: не восьмиклассница, а снеговик какой-то. И голос у нее такой же: не говорит, а как будто в трубу дует:
— Шаганэ, ты моя Шаганэ… — она раскачивается в такт, мерно, тяжело, словно нагруженный корабль, который в бурю пытается добраться до родного берега.
«Шаганэ, ты моя Шаганэ» — это ее любимое, а вообще, она Есенина очень любит: он ее от смерти спас. Хотя не только он, еще физрук в спасении участвовал. Я думаю, что физрук даже больше постарался, но Шаганэ так не считает. И из благодарности к великому поэту читает это стихотворение на каждом школьном мероприятии.
— Шаганэ, ты моя, Шаганэ, — поправляет очки указательным пальцем. И качается: туда-сюда, туда-сюда…
После стихотворения обязательно кланяется, ждет аплодисментов, идет, тяжело ступая, выбивая из старого паркета фонтанчики пыли. За сценой у нее драный рюкзачок, а в нем потрепанный, как молитвенник монахини, томик Есенина — с белокурым портретом и закладками из белых тетрадных бумажек. Вся школа знает: в тот момент, когда завуч выйдет объявлять следующего чтеца-декламатора, Шаганэ в соседней комнате откроет книжку, прочтет стихотворение еще раз, чтобы убедиться: все ли правильно. Убедившись, что все хорошо, а она ничего не напутала, облегченно вздохнет так, что всколыхнутся занавески, и с чувством выполненного долга вернется в актовый зал.
Из-за этого портрета, стихотворения, и маниакальной привязанности к Есенину все без исключения: и мальчишки, и девчонки, и даже некоторые учителя, прозвали ее Шаганэ. Кличка эта так прочно закрепилась за ней, что настоящее имя стали потихоньку забывать. И только глядя иногда в классный журнал, вспоминали, что зовут ее Танька.
— Итак, она звалась Татьяной, — это повторяли все ее новые педагоги. Повторяли так часто, что в ее глазах эти строчки стерлись до какого-то пошлого, словно из картона вырезанного, шаблона. Пушкина Шаганэ недолюбливала. Может, из-за этой фразы, может, потому что он Наталье Гончаровой изменял и матерными стишками баловался, Бог его знает, но все его стихи она читала, сурово поджимая губы, словно делала великое одолжение мелкому классику. Лермонтова жалела, смутно подозревая в нем космического пришельца. У него и глаза были красивые, и умер он молодым, и про голубое сияние что-то такое намекал. Это ее интриговало. Современных поэтов, даже шестидесятников, Танька за людей не считала. То ли дело Есенин, который вытащил ее из петли в седьмом классе.
Про свою прежнюю школу Шаганэ рассказывала с удовольствием. Описывала, как топили ее в унитазе одноклассницы, как плевали на ее портфель мальчишки, как однажды затащили ее в раздевалку сизые обкуренные малолетки, стали душить и лезть под юбку. Как она вырвалась от них, мыча от бессловесной обиды, страха и стыда. А ночью ее чуть не зарезал пьяный отец — свихнувшийся от нищеты кандидат философских наук. И она в два ночи — лишь бы он успокоился — читала ему третий том Гегеля. На тридцатой странице папаша потребовал обосновать ему второй закон диалектики. Она обосновала, и он, хлопнув паленой водочки, затих. Пять минут Шаганэ была счастлива, думая, что он умер. Но папаша захрапел, перевернулся на другой бок, и бедная Танька, набравшись смелости, пошла за мамой, которая пряталась в бане. Ужас! Нам — чистеньким ленивым деткам кошмары окраинных школ и сумасшедшей Танькиной жизни казались ненастоящими. Мы отодвигались, морщились, кривились, а она все рассказывала и рассказывала, гудя в ухо, как какой-то Тоне дали по голове кирпичом за то, что она не пошла с одиннадцатиклассниками на чердак, как неизвестного нам Вадика заставляли ползать под столом и кричать «Я петух …те меня». В конце она всегда говорила: «Боже мой, как хорошо, что я попала именно в эту школу! Тут так спокойно». Мы соглашались и убегали, боясь, что Шаганэ примется потчевать нас новой порцией кошмаров, а она любила это — вызвать ужас, испуг и граничащее с отвращением сочувствие. Так вредные живучие старухи с аппетитом рассказывают про свои пролежни и геморрои или норовят показать, как змеится по высохшему старческому животу гадкая розовая нитка послеоперационного шва. Чем лучше они себя чувствуют, тем приятней им вспомнить страшную болезнь и доброго доктора с его лекарством. Хотя вряд ли Шаганэ была из той породы. Просто ей, бедолаге, так хотелось сочувствия и понимания, и она выжимала из нас эти чувства в таком объеме, который мы не могли себе позволить. И не желали! Никто не хотел жить чудовищной Танькиной жизнью, а потому, наскоро выслушав ее, мы спешили прикрыть эту ямищу шелухой пустяшных разговоров: про мальчиков из параллельного класса, про сериалы, про модные юбочки в мелкую клеточку. Танька стояла рядом, сопела, смотрела с тоской. Чувствовалось, что в разговорах ей тесно. И непонятно, как влюбленная девочка может плакать из-за мальчика, который при всех назвал ее дурой. Ее вот почти такой же мальчик чуть не убил, а она продолжает жить и радоваться, потому что…