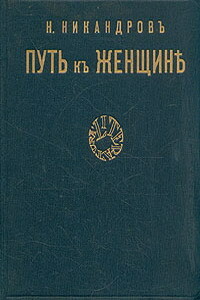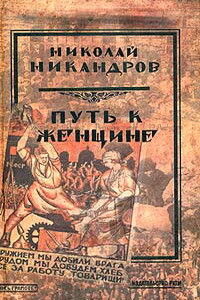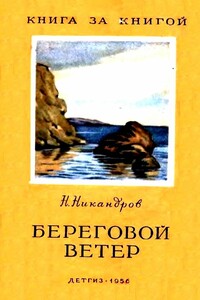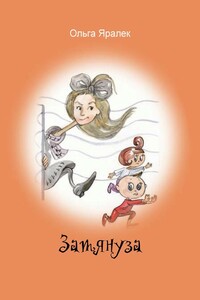Николай Никандров
Рынок любви
I
Бухгалтер одного из отделений Центросоюза Шурыгин, маленького роста, плотный, хорошо упитанный мужчина с очень идущей к нему большой прямоугольной бородой, делающей его лицо красивым, уже в третий раз безрезультатно обходил кольцо московских бульваров: Пречистенский, Никитский, Тверской…
Походка у него была мечущаяся, вид растерянный, и, глядя на него со стороны, можно было подумать, что этот странный, солидный бородач только что потерял в темноте и теперь почти со слезами на глазах разыскивает среди прохожих кого-то из своих близких.
Несмотря на крепнущий к ночи московский мороз, Шурыгин то и дело снимал с головы теплую шапку и вытирал платком с лысины пот, а сам даже и в это время не переставал посылать на всех проходивших мимо женщин острые, голодные, дальнозоркие, как у моряка, взгляды. Опытным взглядом тридцатидевятилетнего холостяка он в пол секунды определял, какая из женщин проходила бульваром случайно, какая искала здесь знакомства с порядочным мужчиной для серьезной и длительной любви, какая проводила тут жизнь, давая себя любить час одному, час другому, всем, профессионально, за деньги.
Оберегая свое здоровье, женщин последней категории Шурыгин очень боялся, всячески от них убегал и пользовался их услугами только в тех крайних случаях, когда его внезапно охватывала бурная, нетерпеливая, уничтожающая жажда любви, а любить было некого. В такие минуты он сам считал себя человеком ненормальным, утратившим власть над собой, способным на самые пагубные для себя безрассудства.
— Толстый, пойдем!
— Нет, я тут ищу одну… знакомую.
— Она не придет.
— Обещала.
И бухгалтер перебирал своими толстыми, короткими нога ми дальше, молнией вдруг устремляясь сквозь тьму то к одной встречной женщине, как к своей хорошей знакомой, то сейчас же наискосок к другой.
— Ух, как вы меня испугали! — вырывался испуганный вздох из уст иной женщины, вдруг увидевшей перед самым своим носом напряженное страстью лицо мужчины.
Иногда темнота и утомленное зрение обманывали Шурыгина, и он налетал живот к животу на мужчину в особенности если у того было длиннополое пальто, похожее в темноте на женскую юбку. Случалось, что точно таким же образом и на него вдруг налетали из тьмы другие мужчины, дикие, с вытаращенными, светящимися в темноте глазами, с расширенными ноздрями…
Ноги бухгалтера были утомлены до крайности, мозг отупел, на сердце камнем лежала тоска… Неужели женщины не испытывают такой же неодолимой потребности любить? Тогда по чему они, тупицы, молчат? Почему ни одна из них не подойдет к нему сейчас и не скажет ему об этом?
Снег похрустывал под новыми калошами поспешающего Шурыгина звучно, густо, плотно, как картофельная мука в кульке: "Хрум-хрум-хрум"…
Наконец в неосвещенной части Тверского бульвара бухгалтер окончательно остановил свое мужское внимание на самой скромной на вид женщине. Она одиноко и долго сидела на полу занесенной снегом, обледенелой скамье, зябко нахохлившись в своей короткой шубке и вобрав голову в желтое дешевенькое боа.
II
— Извиняюсь, мадам, я вам не помешаю? — взволнованно подсел к ней Шурыгин, избрав момент, когда вблизи никого не было.
— Нет, нет, ничего, пожалуйста, — проговорила незнаком ка торопливо и тоже волнуясь, точно боясь, как бы Шурыгин не передумал и не ушел.
И она еще больше сжалась, собралась в плотный, круглый комок, без головы, без рук, без ног.
— А то я могу уйти, если в случае… — пробормотал Шурыгин, пробуя почву и сразу выпустив из себя все свои внутренние мужские щупальцы.
— Вы мне не мешаете, — с достоинством ответила женщина, не поднимая на Шурыгина лица и глядя прямо перед собой в одну точку.
Она сидела на одном конце длинной садовой скамьи, Шурыгин на другом, и оба боялись, как бы кто-нибудь третий не сел посредине.
Середина спинки скамьи опиралась о толстый ствол древнего дерева, широко разросшаяся крона которого на всех белых мохнато-заиндевелых ветках была сплошь унизана, точно крупными черными листьями, спящими галками и воронами. И иногда было слышно, как сонные птицы с мягким, сдержанным, грациозным шелестом вдруг всей своей массой начинали молча производить среди ночи странные, им одним понятные и зачем-то им нужные, перемещения с ветки на ветку того же дерева…
Шурыгин, чтобы его не узнали знакомые и сослуживцы, поднял каракулевый воротник пальто и, повернувшись лицом к незнакомке, напряженно сверлил глазами одну ее щеку, пытал ся разглядеть в темноте ее лицо, цвет волос, всматривался в шапочку, шубку, ботинки. Кто она? Зачем она тут? К какому из трех обычных разрядов можно ее причислить?
— Видите что, — стесненно сказал он, обратившись к незнакомке и посылая ей свои слова через всю длину скамейки, — я это оттого вас спросил, не помешаю ли вам, что иные дамы обижаются, если мужчина сядет на одну с ними скамью. Они сейчас же начинают что-нибудь думать…
Это все пустяки, — отозвалась из самой верхушки темного комочка дама, по-прежнему не шевелясь и не глядя на своего соседа. — Что из того, что на ту же скамью, на которой сижу я, сядет мужчина!
— Конечно, конечно, — оживился бухгалтер и, как бы сам того не замечая, подобрал под собой в руки фалды пальто и в сильно согнутой к земле позе подъехал по скамье на аршин ближе к даме. — Ну что, например, из того, что я вот сейчас сел на эту скамью? Какой вам ущерб? Другое дело, если бы вы кого-нибудь другого…