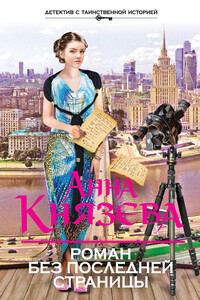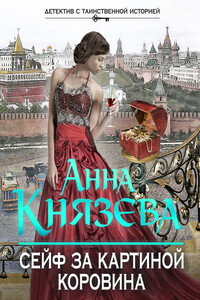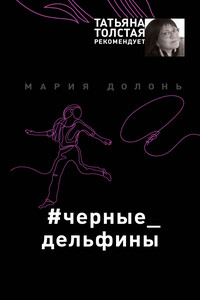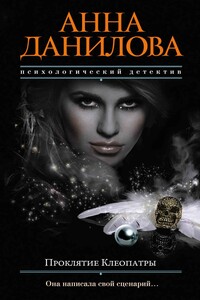Дождя не было с самой весны. Трава поднялась хилая даже в чистых лощинах, где косили для колхозных коров. В лесных покосах для домашней скотины – еще хуже.
Косили и грабили[1] только бабы. Мальчишки на можарах[2] свозили траву к силосной яме, в которой топтались тощие девки. Трава набивалась медленно, потому что даже самая здоровая баба не выкосит столько, сколько наработает хлипкий мужик. А их в деревне было всего трое: слюнявый Куста, горбатый Митька и председатель Савицкий. Четвертый – дед по прозвищу Ерш, тот, что гнал деготь за кладбищем, где много берез, еще в мае сделал гроб, втащил его на чердак, упал и насмерть убился. В том гробу его и схоронили.
Вечером бабка Хохлиха взяла икону и пошла по дворам. Собрала баб, что подоили коров. Так, всем гуртом, отправилась с иконой в поле молиться, просить Боженьку о дожде.
Ночью прошел дождь, а с утра в деревне готовились к свадьбе. С работы отпустили одних только девок, подружек невесты, их набралось около двадцати. Баб оставили на покосе. Обычное дело, им, старым, пристало только работать.
Оба, и жених, и невеста, были из сосланных чухнов[3]. Манька в девках пересидела, кроме нее в семье было еще трое ребят. Отец помер, и мать сосватала ее за горбатого Митю Ренкса. Выдать – и с глаз долой, пусть кормит муж.
В доме, как у всех, была голодуха. В округе на шесть километров не росло даже щавеля. Листья щипали с картошки. Рубили, варили, заправляли отгоном[4], его было вдоволь, потому что масло сдавали в районный центр по налогу.
Невесту приготовили до обеда. Вырядили в белое платье из отбеленного на морозе холста. Сдвинули столы, покрыли скатертью из того же холста, что платье невесты.
Мать выставила миски с вареной картошкой и соленой капустой красного цвета, такую каждый год квасили с бураками. Вытащила из печки чугун, в котором томилась брюква. Переложила желтые разваристые кругляши в глубокую чашку. Поставила на стол два гусака[5] с самогонкой и медовуху в коричневой крынке.
Младшие сидели на печке, глотая слюни, смотрели, как мать несет к столу тазик с сушками, облитыми жирной сметаной. Еще вчера она выпекла их из муки, которую колхоз выделил к свадьбе. О них все трое мечтали ночью, надеясь, что, захмелев, кто-нибудь из гостей кинет на печь несколько штук.
Время шло, Манька села в торец стола. Рядом – пустой стул. Подружки запели свадебную и стали ждать жениха.
Наконец услышали скрип ворот, в хату зашел председатель, раскинул руки и прокричал:
– Митька помер!
– Чегой-то? – вскинулась мать.
– Вымылся, штаны постирал, рубаху. Там, в бане, его и зарубили. Всю ночь пролежал, пока не нашли.
– А-а-а-а! – закричала Манька.
Председатель обвел взглядом стол, потом унылые лица подружек. Снял кепку и почесал в голове.
– Ты, вот что… – сказал он Маньке, – чтоб ничего не пропало. За Кусту пойдешь. Сегодня. – Он снова посмотрел на еду. – Жрать нечего…
– За Кусту я не пойду! Он слюнявый, у него рот открыт…
Манькина мать закричала:
– Пойдешь! Я тебя в бочке солить не буду! Ты мне здесь не нужна!
Председатель надел кепку и вышел из хаты. Манька выскочила на улицу, вцепилась в телегу и взревела во весь голос. Председатель ругнулся и вытянул ее хлыстом вдоль спины. Она отцепилась, упала на землю. Из хаты выбежала подружка и стала тащить ее за руки.
– Вставай, Манька, в хату идем.
– Ой лишенько мне, Вера, – плакала невеста. – Ой, лишенько… Грешница я – понесла…
Вера отпустила ее руки, и Манька распласталась в пыли.
– Митенькин?
– Нет, не его.
– А Митенька знал, от кого?
– Знал.
– Теперь ты молчи!
Петрушу Кустова на свадьбу привезли немытым, в потной рубахе, в портянках и пыльных лаптях. Рубаха, как и штаны, у него была одна. В ней работал, в ней спал, в ней приехал жениться. Никто в деревне его не любил, никто не хотел.
Кусту усадили рядом с невестой. Выпили самогонки и скоро крикнули:
– Горько!
Манька заплакала:
– Я не буду…
А Куста полез целоваться.
Про бедного Митю Ренкса не вспоминали. В сравнении с общей большой бедой его смерть была пустяком.
На дворе стоял июль 1943 года.
Снег выпал уже в ноябре, поэтому весь декабрь Москва была новогодней. Этого настроения Дайнеке хватило до января. В январе наступила сессия. Последний экзамен она сдала в день, когда началась эта история.
В кармане лежала зачетка с деканатской отметкой, Дайнека была свободна, как вольный ветер. Выйдя из метро на своей станции, она споткнулась о раскладной матерчатый стул, на котором висела табличка: «Гадаю». Рядом стояла женщина, нисколько не похожая на цыганку. Встретившись с ней глазами, Дайнека спросила:
– Почем гадаете?
– По руке, – ответила та.
– Я в смысле… Дорого? – уточнила Дайнека и сама себе удивилась, потому что не собиралась задерживаться.
– Двести.
– Рублей?
– Разумеется. – Гадалка посмотрела на нее строгим взглядом поверх очков. Совсем как учитель начальных классов.
После этого нужно было уйти или остаться. Дайнека выбрала второе и уселась на стул.
– Вот… – она протянула правую руку ладошкой кверху.
– Сначала давайте левую, – сказала женщина и села на маленький табурет.
Прохожие не обращали на них никакого внимания.