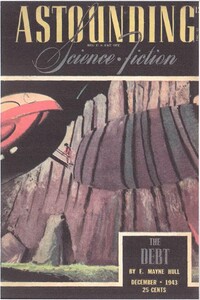1
Прислушиваюсь.
— …а он на муху: «Кыш, проклятая птица!»
Это в туалетной комнате Вэсли начал новую серию анекдотов про дистрофиков, а по части анекдотов он крупный специалист. Порою даже удивляешься — откуда он их столько берет? Я, например, утром слышу, а вечером уже и не помню, о чем шла речь, а он хоть бы что — выдает день за днем, не повторяясь, при любых обстоятельствах, даже на вечерней поверке, серии про лунатиков, сумасшедших, женатых и разведенных, живых и покойников, а вот теперь — про дистрофиков — так и сыплет, как из рога изобилия, до краев наполненного юмором и непристойностью.
И нужно отдать должное — рассказывает он мастерски, со знанием дела, не как те, которые начинают давиться от смеха, не успев досказать, нет, он даже не улыбнется, когда закончит, смотрит только то на одного, то на другого, словно недоумевая, что это их так развеселило. Я иногда даже задумываюсь: а не сочиняет ли Вэсли их сам? Вполне возможно, но спрашивать его об этом бесполезно. Никто не может назвать хотя бы одного человека, который бы признался, что сочинил анекдот. Скорее всего, это — тайная организация, корнями уходящая в глубь веков, члены которой, может быть, даже под страхом смерти хранят секреты своего веселого творчества.
Я заправляю свою постель. Все никак не схожу к Бишопу заменить матрац: в этом морская трава превратилась в труху и нестерпимо воняет мышами. И хотя нашего старьевщика так сразу не пробьешь — у него скорее сгниет весь склад, прежде чем он выдаст что-нибудь до истечения срока годности — но я знаю, как к нему подъехать.
Сквозь грязные стекла узких зарешеченных окон сочится мутный рассвет, и никакой кретин не догадается нажать на выключатель: в казарме темно, как в склепе, лишь только противно белеют тощие ноги Марвина, свешивающиеся с верхней койки. Он всегда так — тянет до последнего, а затем сядет и сидит молча, как индус, а ты цепляйся головой за его копыта.
Подхожу к окну. На дворе такая беспросветность, что кажется, кроме казармы и ближайших построек в мире ничего больше не существует. Черная труба кухонного блока едва маячит в студне тумана. Единственное светлое пятно — желтая черепичная крыша каптерки. Она будто парит на сером фоне, лишенном протяженности и смысла.
Начался еще один день — нудный, мрачный, тоскливый, и мне особенно в такие дни по утрам становится не по себе от мысли, что предстоит еще промаяться целую вечность до отбоя, после которого ты становишься самим собой и, засыпая, испытываешь ни с чем не сравнимую радость от сознания, что, хотя и ненадолго, отключаешься от всей этой серости и скуки.
За спиною заскрипели койки — это, наконец, сползает Марвин. Я, не оборачиваясь, представляю, как он сейчас топчет немытыми ногами мое одеяло, а следом за ним тянется на пол мятая простыня. Но его лучше не заводить, а то опять начнет трястись и пускать пену, как тот раз, только испортит весь завтрак.
Гурьбой вваливаются из умывальной ребята. Вэсли заканчивает третий анекдот: «…конечно, говорит, пойдем, если ветра не будет». Даже Стивен и тот улыбается, хотя до него обычно доходит на третьи сутки, как до страуса.
Заспанный дневальный прокричал сквозь гам от дверей:
— Давай заканчивай и вываливайся на построение!
Выходим на плац, ежась от промозглой сырости. Туман опустился еще ниже и валит, как дым, клубами на расстоянии вытянутой руки. Не верится, что где-то там, за сопками, солнце. Мир сжался до размеров плаца, и, кажется, что он таким был и будет всегда.
Появился Хаутон. Как обычно — руки за спиной, а на лице такое выражение, будто он мучительно пытается что-то вспомнить, но это ему никак не удается. Скомандовал «направо» и повел в столовую. Можно было бы и не строем, если учесть наше положение и численность, но с Хаутоном спорить не стоит; после шести месяцев джунглей у него в голове что-то сдвинулось, и теперь он только и знает, что рыскает вечерами по ближайшим холмам и стреляет скунсов. Говорят, что они все становятся такими, все, кто хотя бы немного побывал в том зеленом аду; некоторые, спустя время, приходят в норму, а у большинства, как у Хаутона, остается на всю жизнь. Таких, как он, и рассылают взводными подальше от начальства в глухомань наподобие нашей. Хорошо еще, что он днями не вылезает из штабной комнаты — сидит, как сыч за столом, положив перед собою кольт, — и появляется только при построениях перед нарядом, да чтобы отвести нас в столовую.
А в остальном все не так уж и плохо. С тех пор, как издали приказ о рассредоточении всех войсковых группировок, вплоть до взводов, жить стало веселее, не то, что в лагере на побережье. Не знаю, как там на счет атомной неуязвимости — мне лично все равно: испаряться в одиночку или с целой дивизией. А в смысле жратвы дело значительно улучшилось. И если бы еще не эти проверки и «пустышки», когда даже нельзя вырваться к девочкам на ближайшую ферму, то было бы совсем хорошо.
Обивая с ног песок у порога, входим в столовую. Запах вареных бобов со свининой и свежезаваренного кофе щекочет ноздри. Рассаживаемся за деревянными столами, покрытыми зеленым пластиком, и погружаемся в читку афоризмов, имен, дат и ругательств, выцарапанных на их поверхности поколением сидевших здесь до нас военнослужащих. Я уже знаю почти все надписи наизусть, и мне понятно это стремление — оставить после себя хоть что-нибудь в этом проклятом мире, пусть даже если это будет ругательство, выведенное вилкой на столе.









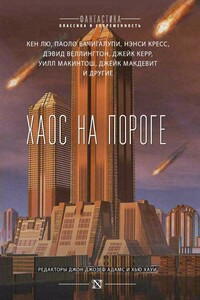
![Ордер на молодость [с иллюстрациями]](/storage/book-covers/1b/1bcfc6fc04219ed8786919c4325fd8f672904f35.jpg)