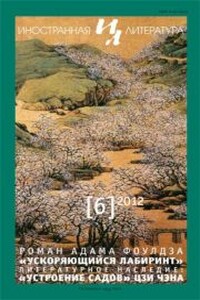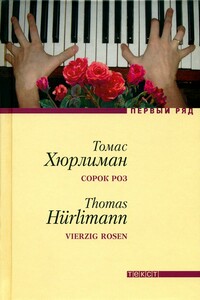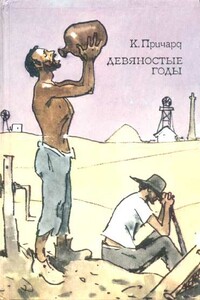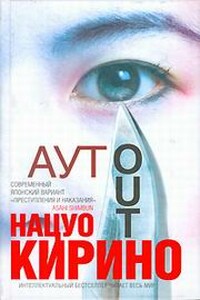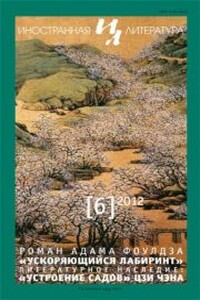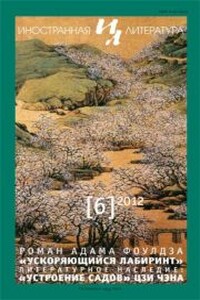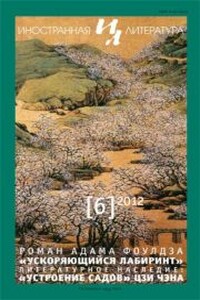В канун своего семидесятилетия поэт Готфрид Келлер сидел на террасе отеля высоко над Фирвальдштетским озером, пил гумпольдскирхенское и смотрел в сумеречную даль. Здесь, наверху, его никто не знал. Зелисберг, прильнувший к крутому скалистому склону в глубине Швейцарии, был курортом, благами которого пользовались господа со всей Европы и даже из Америки, но почти не пользовались сами швейцарцы. Келлер поднял бокал. Июльский вечер выдался теплым, вино было добрым, с каждым глотком он чувствовал себя все лучше. Завтра ему исполнится семьдесят — круглая дата, самый большой праздник его жизни, он же, юбиляр, обвел всех поздравителей вокруг пальца. В гранд-отеле «Зонненберг» удалось снять номер под чужим именем. Он залпом осушил бокал и в приливе радужного настроения представил себе, как мужские хоры и студенты с факелами, собравшись перед его цюрихской квартирой, будут напрасно сотрясать воздух песнями и радостными кликами: Келлер, давай же, выходи! Ура! Ура! Ура-а-а!
У подножья горы, возле поляны Рютли, прогудел пароход. А вслед за тем раздался звонкий смех: две девушки, приветливо кивнув ему, скрылись за дверями отеля. Ах ты, старый пес, подумал Келлер, как ты рад, что не чувствуешь больше зуда от блошиных укусов страсти.
С наступлением сумерек часто приходила тоска, поэтому, наперекор подагре, Келлер решил посидеть за бокалом вина еще какое-то время. Он боялся помпезной пустоты своей комнаты. Там он лежал бы сейчас на двуспальной кровати, сам ненамного больше ребенка, разглядывал бы потолок и тускнеющий в полумраке узор обоев, а потом, вдруг, на нижний конец ложа опустилась бы черная птица — его тоска.
— Es timmeret[1], — заметил, наполняя ему бокал, долговязый герр кельнер. За минуту до этого он вышел на террасу и журавлиной походкой приблизился к гостю. Поставив бутылку на сервировочный столик, он откашлялся в белую перчатку и явно ожидал, что гость завяжет с ним беседу. Келлер остерегся делать это. Официант был из здешних, уроженец одного из лесных кантонов. Ему, цюрихцу-горожанину, люди этого склада были чужды. Когда-то они отвергли власть австрийских герцогов, прогнали со своей земли их наместников, стали сами себе господами, а ныне?.. Ныне они вьются около графинь, банкиров, королей угля и стали, неизменно рассчитывая получить на чай. Некогда свободные и смелые крестьяне превратились в холопов, сделались кельнерами и подручными игроков в гольф.
Под нежным, последним светом небес земля, казалось, обретала и даль, и ширь, и сумрачность. С альпийских лугов доносился перезвон колокольчиков. Зычным голосом, через буковый рупор, пастух монотонно оглашал окрестности вечерней молитвой. Одетый во фрак кельнер стоял теперь у парапета террасы; похоже, наблюдал, как пароход, тая в сизой дымке, пересекает озеро.
Я глубокий старик, мысленно сказал себе Келлер. Он сидел в плетеном кресле, прикрыв короткие ноги пледом, и пил — пил торопливо, пил, чтобы сохранить в душе веселость, хорошее настроение. Повеяло прохладой, темнело. Лишь озеро, будто могло само излучать свет, лежало, как зеркало из серебра, в глубине темно-зеленого, полного теней ландшафта. Келлер улыбнулся. Годы состарили его, но не ожесточили. Он жил бобылем, но не чувствовал себя одиноким. Птица, рискнул он подумать, хоть и задела его крылом, но когтей в ход не пустила. Сегодня, в канун юбилея, тоска оставила его в покое. Кельнер выпрямил спину, обернулся и взглянул на него. Казалось, он хотел что-то сказать. Келлер втянул голову в плечи. С неба исчезали последние отблески света. Ни звезды, ни луны. Где-то закрыли окно, задернули шторы, перезвон колокольчиков поутих, доносился издалека.
Как вдруг…
Земля, окутанная ночным мраком, пробуждается, в приозерных селах и ближних долинах начинают звонить колокола, где-то совсем близко — треск, шипенье, вспышка, ввысь летит сноп огня, и вот уже все склоны, все вершины объяты пламенем — пейзаж лесных кантонов разом превратился в громадный летний театр с пышной иллюминацией.
Радужного настроения у Келлера как не бывало. «Was händ ächt die Tuble wider z fyre!» [2]— проворчал он.
Кельнер подошел ближе. «День рождения одного стихотворца!»
«Что вы сказали?» — Келлер поперхнулся.
«Да, — продолжал кельнер, понизив голос, — верится с трудом, но, увы, это чистая правда: таким вот фейерверком и звоном колоколов на всю округу тут решили отметить семидесятилетие некоего Келлера, Готфрида, поэта из Цюриха, не поскупились ни на дрова, ни на петарды». И хватили через край, по его, господина Венделина, мнению.
«Так, так», — буркнул Келлер.
А господин Венделин, с плохо скрываемой усмешкой: Свет небесный, ты не поскупись, / Лейся в окна глаз моих, струись!
Келлер сорвал с себя очки, потер большим и указательным пальцами глаза, хотя знал и видел: то был не сон и не плод хмельного воображения — герр кельнер, который столь нагло и уничижительно процитировал его, стоял в метре от плетеного кресла — долговязый, попахивающий потом. «Юбиляр имеет обыкновение слагать стихи именно в такой тональности, — пояснил он, — процитированные строки появились сегодня утром во всех газетах. Свет, льющийся