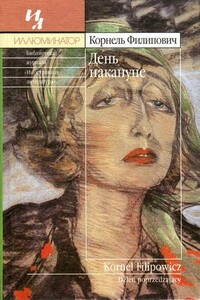В современной польской литературе, которая, однако, уже принадлежит прошлому тысячелетию, есть немалая группа писателей — так называемых «ровесников века», — составляющих гордость польской словесности. Один из них, бесспорно, — Корнель Филипович. Его имя никогда не гремело, его проза по сути своей негромкая, сдержанная — и необыкновенно глубокая. Но ведь тихие слова чаще западают в душу и прочнее застревают в памяти, чем иные трубные звуки, а малое отражает большое.
Филиповича лично коснулись едва ли не все потрясения, уготованные ХХ веком своим детям. Он родился в канун Первой мировой войны в Тернополе, откуда ушел на войну его отец, а семье пришлось уехать, когда в последний военный год дом был разграблен казаками. Вторую мировую войну он встретил в мундире унтер-офицера, участвовал в сентябрьской кампании 39-го года, попал в плен — сначала советский, потом немецкий, бежал, в годы оккупации работал в каменоломнях под Кельце, потом перебрался в Краков; был связан с движением сопротивления, в 44-м арестован гестапо, из краковской тюрьмы отправлен в Германию, в концлагерь; после освобождения вернулся в Польшу. До войны Филипович учился на биологическом факультете, однако уже тогда публиковал стихи и рассказы. После войны написал четыре романа, но с конца 50-х годов его жанром стала «малая проза»: рассказы и — параллельно — «микророманы», а затем уже только рассказы, большей частью короткие; в конце жизни он опять начал писать стихи.
В прозе Филиповича явственна автобиографическая линия; собственная судьба предоставила ему обильный материал для размышлений и богатейший выбор сюжетов. Независимо от фабулы каждый его рассказ — тонкий психологический этюд, и главное в нем далеко не всегда происшествие. Корнель Филипович — внимательный и неспешный наблюдатель, от острого взгляда которого не укрывается ни красота пейзажа, ни едва заметное движение человеческой души; он умел находить простые и на редкость точные слова для передачи своих впечатлений и мыслей. В его прозе читатель обнаруживает яркую образность при, казалось бы, серой гамме красок, безупречную стилистику, выразительную недосказанность, и очень часто — неожиданный либо даже парадоксальный поворот сюжета или умозаключения. Хочется повторить вслед за известным польским критиком: «…это один из самых чистых, самых выдающихся наших прозаиков, который полное отсутствие претенциозности довел до виртуозности».
Предлагаемые читателю рассказы написаны в разные годы и подобраны по хроникальному принципу, позволяющему получить представление не только о мастерстве писателя, но и о его личности. Над подборкой работали участники семинара по переводу польской художественной литературы, действующего при Польском культурном центре в Москве.
В тот день я проснулся поздно. Вставать не хотелось. Все дела, которые я мог придумать себе на сегодня, казались неинтересными и даже бессмысленными. Кроме того, в комнате было довольно холодно, и, чтобы встать, умыться и одеться, мне пришлось бы совершить массу неприятных действий, требующих передвижения в стылом воздухе и столкновения с ледяными предметами. Итак, я лежал и смотрел на белые стены, на диван Иоанны, накрытый серым ковриком, на черную железную печку, голубую кастрюлю, ведро с углем. Все было мерзлым, застывшим. Спать, однако, мне уже не хотелось, и немного погодя я все-таки встал. Был уже десятый час. Я выпил чаю, потом долго смотрел в окно на сад. Центр сада с голыми, поблескивающими от влаги ветвями просматривался отчетливо, до мельчайших подробностей, но дальше, в направлении лесов и лугов, все было затянуто туманом, который по мере отдаления густел. Горизонт вообще не был виден, небо там сливалось с землей. Реальными представлялись только комната, из окна которой я смотрел на сад, дом, в котором я жил, и окружающие его деревья — существование всего остального казалось сомнительным, может, ничего больше и не было? Потом я кружил по комнате, брал в руки и разглядывал различные предметы, словно бы примеривался, не окажется ли какой-нибудь из них ключом, открывающим сегодняшний день. Я держал в руке свою старую записную книжку и листал ее страницы; подолгу внимательно всматривался в дурацкие, абсолютно ненужные вещицы, стоящие на полке и подоконнике. В конце концов я, похоже, нашел нужную вещь — секатор для подрезания веток. Однако уверенности у меня не было; стоило попробовать. Я взглянул на термометр за окном — два градуса тепла: значит, надо надеть куртку, шарф, шапку — и спустился вниз. Мой малыш спал в кроватке: спокойное личико, закрытые глазки, розовые щечки. Теща сказала, что Иоанна ушла, когда я еще спал, и спросила, не иду ли я в сад. Я ответил, что иду. А раз так, то, может, я загляну в погреб, посмотрю, не завалялось ли в засохшей картофельной ботве немного фасоли? Я заметил, что еще осенью мы с Иоанной подобрали все до последней фасолины, но теща полагала, что всегда что-нибудь да пропустишь, а на суп хватит и горстки. Мы обменялись на тему фасоли всего несколькими фразами и говорили тихо, чтобы не разбудить ребенка, но я чувствовал, что продолжение беседы приведет к нарастанию напряженности между нами. Неизвестно, с чего она взялась, но так было всегда. Это происходило как бы само собой, при одном только взгляде друг на друга в каждом из нас вспыхивало смутное раздражение.