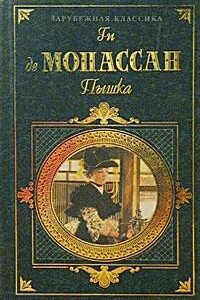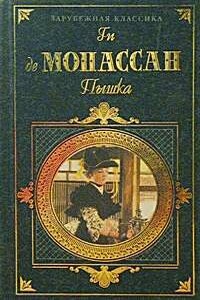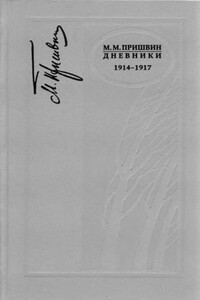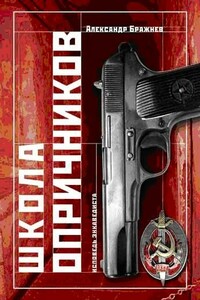Этот только что выпущенный на свободу человек торопился. Он привез с собой отчаянную жажду догнать вычеркнутые из его жизни тринадцать лет. Его дипломная работа, его лагерная проза потеряны, можно считать, безвозвратно. Они под грифом «хранить вечно». Все надо начинать сызнова.
Он опять в Литературном институте, расположившемся в доме, где родился Герцен. Бывший зэк быстро идет по длинному коридору старинного дома, не узнавая и узнавая знакомые места. Как и раньше, пахнет пылью. Но откуда-то тянет свежей сыростью известки. Красят фасад здания, и запах проникает внутрь. Как и тогда, в полутемный коридор распахиваются двери аудиторий. Но из них выходят незнакомые ему люди. Перерыв между лекциями. В конце коридора — окно с широким подоконником, таким памятным, что даже страшно. Он знает, там могли поместиться двое и сразу выделиться, отделиться от толпы. Сейчас там сидит девушка в синей юбке и красной кофточке.
Издали, может быть благодаря легкой танцующей походке, недавний зэк кажется щеголеватым юношей. На самом деле ему за тридцать. Он сутуловат и очень худ. На бледном семитском лице выделяются черные с поволокой глаза. Он не вписывается в толпу своих сверстников в полуспортивных, нарочито небрежных куртках, — одет в отглаженный и тщательно подогнанный костюм и галстук в полоску.
Стояла ясная осень 1956 года. В Литинституте шепотом пересказывали сенсационные факты из неопубликованного доклада Хрущева, Аркадий Викторович Белинков стремительно мчался по коридору, нагоняя упущенное время, а я, присев на широкий подоконник, рассеянно перелистывала какой-то журнал. У меня — сотрудницы Литинститута — перерыв.
Восстановиться в Литинституте — сдать чуть ли не два десятка экзаменов (ведомости были сожжены во время войны, когда в здании института размещалась зенитная батарея) и написать новую дипломную работу.
Он взялся за дело безотлагательно. И сразу стал вызывать подозрительное удивление: только что из заключения, а чуть ли не каждый день сдает по экзамену, и все «на пять». Зав. учебной частью — красивая полная дама — полушепотом намекала: «Так евреи…жш…» и томно поводила покатым плечом. Сомневалась не она одна. Вот и отбывавший в это время свою ссылку бывший друг и одноделец не поверил и безапелляционно заявил в своих воспоминаниях: «не кончил четыре курса за полтора месяца». Даже отец Аркадия признался мне однажды: «Я и сам не вполне доверял ему. Соседи меня спрашивают: „Как сын?“, а я им отвечаю: „Сдает…“ Ведь я знал, каким его от меня взяли. Я не знал, каким он оттуда вернулся».
Аркадий Викторович был общителен без панибратства, отличался изящной, немного старомодной вежливостью: здороваясь, целовал дамам руку и, когда представлялся, называл себя по имени и отчеству. Не было у него ни вкоренившейся согбенности, ни быстрого испуганного взгляда, которые можно было бы предположить у человека, вернувшегося из заключения, об ужасах которого страна только начинала узнавать. Довольно скоро Аркадий собрал вокруг себя большой круг слушателей и слушательниц. Многое из того, что впоследствии мы прочитали у Солженицына, Шаламова, Гинзбург, мы впервые услышали от этого узника ГУЛАГа. Он рассказывал, как арестованных сажают на допросах перед тысячеваттной электрической лампой, как в этапе однажды удалось поймать неосторожного тушканчика и как его тут же съели живьем, со шкуркой и хвостиком, как после ликвидации Берия в бараках произвели шмон и из красного уголка (вот удивительно!) изъяли все музыкальные инструменты, как однажды зэкам торжественно объявили, что за хорошую работу их будут хоронить не с биркой к ноге, а в гробах!
Рассказывал он, собственно, не о себе, а о лагере. С непредставимой лагерной былью переплеталась гротесковая манера рассказчика. Не легко было проглотить эти вселяющие ужас истории. По Москве пошла гулять фраза: «Белинков много врет про лагеря». Будто бы это сказал Наум Коржавин. Аркадий закипел: компрометация рассказчика умаляет преступления ГУЛАГа! Однажды, увидев поэта в вагоне московского метро, он, готовый не то к ссоре, не то к драке, решительно к нему направился. Приблизившись, увидел: тот с увлечением читает его, Белинкова, только что опубликованную книгу. Остыл, конечно, но все же спросил, защищает ли Коржавин тюремщиков. Тот ответил, что нет, тюремщиков он не защищает. Объяснились к взаимному удовлетворению.
Когда в Литинституте появился еще один лагерник, мои подруги захотели их познакомить — как-никак оба из ГУЛАГа, почти что земляки. «Белинков? Да он в лагере мыло украл. Мы в одном бараке жили!» Женщины заволновались. Кому верить? Не входя в детали, я осторожно предупредила Аркадия Викторовича. Неожиданно он рассмеялся: «Сказал, наверное, что я мыло украл?» И счел нужным мне, неопытной, объяснить, что, когда его выдернули на этап, он действительно унес с собой обмылок. В бараке никого не было, спросить не у кого. Считалось, что в подобных обстоятельствах это можно. Там это понимали. Но какие разнообразные бывают реакции! Рассказала я об этом случае своей приятельнице, знакомой с нравами в лагерях, а она восхищенно восклицает: «Какой чистый человек! Мыло взял».