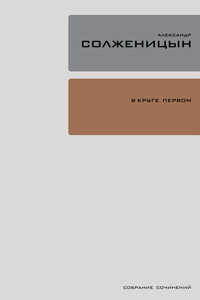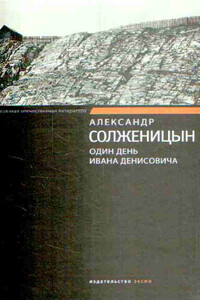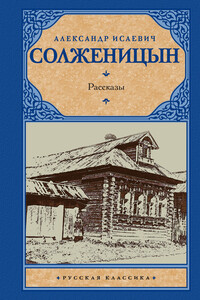Александр СОЛЖЕНИЦЫН
РАДИОИНТЕРВЬЮ К 20-ЛЕТИЮ ВЫХОДА
"ОДНОГО ДНЯ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА" ДЛЯ БИ-БИ-СИ
(Интервью ведёт Барри Холланд)
Кавендиш, 8 июня 1982
Александр Исаевич, когда и как создавался "Иван Денисович"?
Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а - рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался и только в 1959, через девять лет, сел и написал.
Сколько времени вы его писали?
Писал я его недолго совсем, всего дней сорок, меньше полутора месяцев. Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни, быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее не лезло, а вот вместить самое необходимое.
Были ли при публикации сделаны купюры и внесены изменения в текст, как это произошло с заглавием?
Да, заглавие Александр Трифонович Твардовский предложил вот это, нынешнее заглавие, своё. У меня было "Щ-854. Один день одного зэка". И очень хорошо он предложил, так это хорошо легло. А что касается изменений серьёзных в тексте, сам Твардовский не был расположен ничего менять. Но разумом редакция понимала, что надо бороться за то, чтоб обстричь когти, смягчить текст, и его заместитель Дементьев на заседании редакции произвёл большую на меня атаку, он требовал многое снимать, например разговор с баптистом весь снять, религию всю снять. А я настолько не добивался этой печатности, я уже писал до этого больше десяти лет, и молчал уже сорок лет с лишним, я им сказал: "Знаете, не подходит - не печатайте. Я могу ещё десять лет помолчать, ничего не случится". И так, собственно говоря, вся его серьёзная атака отлетела, ничего они не добились, были мелкие пожелания от того рецензента Хрущёва, который всё это проводил, чтобы там снять лишнюю брань на конвой, - ну, это я снял. А самого главного, надо сказать, как-то не заметили ни в редакции, ни даже когда Хрущёву уже прочли и Хрущёв утвердил эту вещь к печати. И вдруг спохватились, что там есть такое совсем страшное место. Это бригадир Тюрин в рассказе своём говорит, что однажды он встретил на пересылке бывшего своего командира взвода и узнал от него, что командир полка, который с ним расправился, и комиссар полка - оба в 37-м году расстреляны. И Тюрин говорит: "Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь". Спохватились, что это удар уже не по сталинскому "культу личности", а удар в самое сердце советской власти; получается, что они, они это сделали собственными руками, и вот наказание Божье. Схватились, и тогда мне из ЦК звонили, чтоб я снял это место одно. А я и тут сказал - нет, я уже знал, что Хрущёв разрешил. Да я это место ни за что бы не уступил, мне без него не надо. И так прошло, в общем, почти что без всяких существенных изменений.
И сохранился ли ещё первоначальный текст?
Да, мы сохранили первоначальный текст, как он был ещё в самом начале написан, и все последующие изменения. Серьёзных изменений не было, ну так, редакторская работа, фонетическая работа была.
Как, по-вашему, эти изменения не отразились на повести?
На смысле повести нисколько не отразились, нисколько. В общем, надо сказать, что удивительным образом прошла вещь; так, как была задумана, вот так целиком она и прошла.
Существует ли прототип Ивана Денисовича или это собирательный образ?
Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что не должен он быть такой, как вот я, и не какой-нибудь развитой особенно, это должен быть самый рядовой лагерник. Мне Твардовский потом говорил: если бы я поставил героем, например, Цезаря Марковича, ну там какого-нибудь интеллигента, устроенного как-то в конторе, то четверти бы цены той не было. Нет. Он должен был быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, тот, на кого всё сыпется. И хотя я знал, конечно, десятки и даже сотни простых лагерников, но когда я взялся писать, то почувствовал, что не могу ни на ком остановиться одном, потому что он не выражает достаточно, отдельный, один. И так сам стал стягиваться собирательный образ. Странным образом, героя я взял - фамилию и наружность - своего солдата из батареи, вовсе не зэка, он никогда в лагере не сидел, Шухов, был у меня такой солдат. А биографию я уже брал от других и все события жизни ещё от третьих, от четвёртых. Иногда собирательный образ выходит даже ярче, чем индивидуальный, вот странно, так получилось с Иваном Денисовичем.
Расскажите, пожалуйста, что вы почувствовали 20 лет назад сразу после того, как в ноябрьском номере "Нового мира" была напечатана повесть "Один день Ивана Денисовича".
Должен сказать, что я не полностью осознал значение уже сделанного. Я понимал так, что это очень счастливый, неожиданный прорыв в советской толще, в этой глыбе, но нужно этот прорыв развивать и продолжать, как можно больше теперь двигать в этот прорыв. А Твардовский, напротив, уже понимал всё значение того, что эта повесть напечатана в Советском Союзе. Мне-то казалось так: ну, не напечатают в Советском Союзе, ну, через два-три-четыре года я напечатаю на Западе. Я не понимал всего значения того, что это именно в Москве напечатано. И когда 18 ноября я, как раз в день публикации, к нему пришёл, он положил передо мной "Известия" со статьёй Симонова, с похвальной статьёй Симонова относительно "Ивана Денисовича", и говорит: "Нате, читайте, смотрите что!" А я говорю: "Ах, Александр Трифонович, отложим это дело, давайте скорей думать, как нам следующие рассказы печатать". Он даже разочарован был, что я совсем и не стал читать статью Симонова, уже потом. Вот так я был настроен, я настроен был - что это не какой-то уже сделанный шаг конечный, а что это только начало, что теперь нужно начинать прорываться.