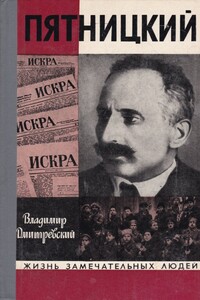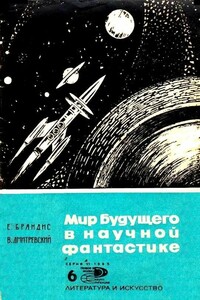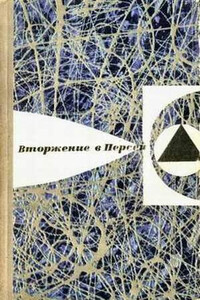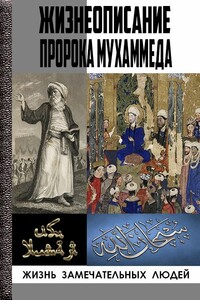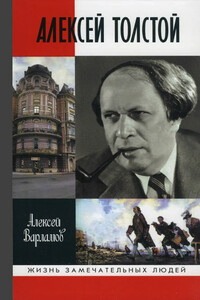Утром 30 января 1932 года светлый «бьюик» с брезентовым верхом затормозил возле углового четырехэтажного дома на Моховой.
Часы на Спасской башне отзвонили четверть — было девять часов сорок пять минут.
Из машины не без некоторых усилий выбрался коренастый, полный человек в теплом пальто и высокой каракулевой шапке. Подошел к невзрачной двери, выкрашенной темной охрой, переложил туго набитый портфель-чемодан из правой руки в левую и дернул дверь на себя.
— Позвольте поздравить вас, товарищ Пятницкий, — торжественно и прочувствованно провозгласил вахтер.
— Это с чем же?
— Дак ведь же именины… Наслышаны. А потом и в газетах.
Пятницкий досадливо передернул плечами, нахмурился, но тут же заставил себя скупо улыбнуться.
— Спасибо, Матвей Никанорович. Расту, да только уж вниз.
Подошел к лифту, захлопнул за собой дверь и наперекор только что сказанному с грохотом вознесся вверх.
А вахтер вытащил пачку «Пушки» и, разминая толстую папиросу, думал, что вот уже сколько лет можно проверять по товарищу Пятницкому часы. Всегда без четверти десять и обязательно предъявит свое исполкомовское удостоверение. Справедливый человек! Строг, конечно, но и к себе самому без послабления относится. Так и должно быть, дисциплина для всех одна. Да и учреждение-то у нас особое — Ис-пол-ком Ком-му-нис-ти-ческого Ин-тер-на-цио-нала!
Размышления вахтера были прерваны хлопаньем двери. С потоками сизого морозного воздуха один за другим входили сотрудники Коминтерна и КИМа, здоровались, предъявляли пропуска и устремлялись к лифту. Впрочем, многие предпочитали пеший ход и, не дожидаясь мечущейся вверх и вниз кабины лифта, взбегали по старым, заметно стертым ступеням лестницы.
Часы на Спасской башне ударили десять раз, и ледяной голубоватый воздух не сразу растворил в себе гулкое медное эхо.
Рабочий день ИККИ начался.
…Пятницкий, кивнув своему секретарю Фане Вазовской, сразу же прошел в кабинет, разделся, ощущая некоторое неудобство от нового, с иголочки, синего костюма, протиснул палец между кадыком и накрахмаленным воротничком белой рубахи и, чертыхнувшись, попытался хотя бы немного ослабить тугой узел галстука.
Сел за стол и привычным жестом придвинул к себе кипу уже приготовленных сегодняшних газет.
Зашелестели страницы «Правды». Так и есть! «К 50-летию тов. Пятницкого» занимает несуразно много места. И сколько подписей! Подумаешь, какое важное событие — одному из бойцов большевистской партии стало на один год больше! Наспех пробежал глазами слова дружбы, признания, восхищения и почувствовал, как жаркая краска стыда полыхнула по щекам, залила подбородок, шею… Ну зачем это? Зачем! Я же просил, предупреждал…
Прирожденная скромность, яростное неприятие любого проявления аффектации, позы, комчванства, вообще свойственные натуре Пятницкого, усугублялись еще и тем, что вся его многолетняя деятельность в партии — очень важная, просто необходимая, проходила не на авансцене, а за кулисами. И была известна лишь очень ограниченному кругу лиц. «Мое дело не высокая политика, а хорошо налаженная техника», — частенько говаривал он, без тени зависти восхищаясь блистательным талантом Луначарского, Мануильского, Кржижановского и других признанных ораторов, полемистов и пропагандистов партии. Так было в подполье, так осталось, как он полагал, и теперь, когда он стал одним из секретарей Исполкома Коминтерна.
Что-что, но «технику» он действительно знал назубок и в этом вопросе без ложной скромности считал себя крупным специалистом. Организация транспорта большевистской литературы в Россию, подготовка и посылка людей из-за границы в Россию и из России за границу с бременем тяжкой личной ответственности за их безопасность, создание подпольных типографий, нелегальных явок, подготовка необходимых документов, разоблачение провокаторов — вот она, довольно многогранная «техника» партии, целые десятилетия находившейся в глубоком подполье.
И нет надобности скрывать, кое-что из своего богатого опыта конспиратора он использует и теперь, руководя организационной деятельностью Исполкома. И именно поэтому не было никакой необходимости так превозносить его… «Делаю лишь то, что умею делать, и не вижу смысла трубить в трубы и бить в литавры по случаю того, что мне исполнилось пятьдесят лет». Пришла забавная мысль: по ошибке на аплодисменты публики выволокли не премьера-тенора, а этого… Как их там называют… который поднимает и опускает люк, свергая сатану в преисподнюю, устраивая ветры и снегопады, да, кажется, машиниста сцены.
Машинист сцены! Сравнение неожиданно понравилось ему самому, и Пятницкий коротко расхохотался. Смех его, резкий и высокий, напоминал тревожный клекот.
И все же, положа руку на сердце, он не мог осудить их, старых боевых своих друзей, подписавших приветствие. Взять того же Белу, или старика Катаяму, или Пика! Не один пуд соли съеден с ними. Привыкли понимать друг друга с полуслова. Спорили, понятно, ругались, но только по принципиальным вопросам и никогда не держали камня за пазухой.