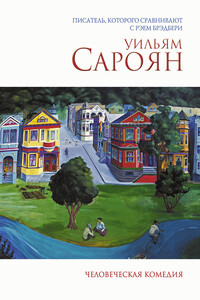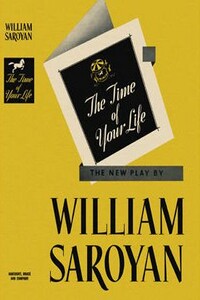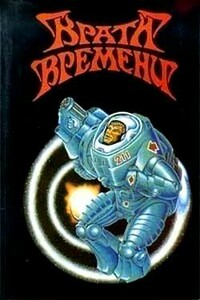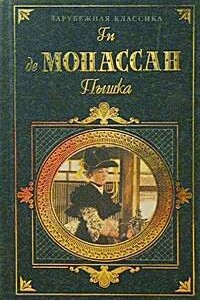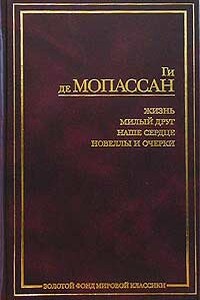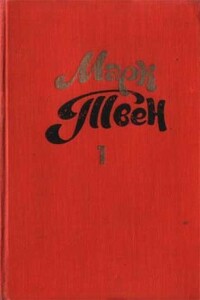Семьсот двадцать два человека, а может, в десять раз больше, а может, все люди, живущие на земле, стояли, обступив его, когда он, пьяный, свалился в канаву. И единственное, что он видел, были сорок девять тысяч глаз, а может, больше. И вдвое меньше лиц, а может, больше – мужчины, женщины, дети. И какие это были глаза. Он ощущал только одно – как много места он занимает на земле, свои гигантские размеры. Он крупнее всех, мощнее всех, живее всех, мудрее всех, добрее всех, привлекательнее всех. Габаритнее, чем Муссолини, сильнее, чем Лайонел Стронгфорт, умнее, чем все профессора страны вместе взятые, доброжелательнее, чем весь Общественный благотворительный фонд, потешнее всех четырех братьев Марксов. И ему нужно было выговориться, рассказать им все, чтоб они знали, эти граждане и друзья свободной республики, враги фашизма и полицейского произвола.
– Вот он я, возлежу перед вами в канаве. Я, патриот и налогоплательщик, ветеран Великой мировой войны, дважды ранен – в бедро и в лодыжку, ни разу не награжден, но всегда герой.
И ему оставалось одно – успокоить свои изнуренные кости, вещать таким вот тоном, на свой манер, и ухмыляться. А в это время его величие, непоколебимое и гордое, возвышалось над толпой, над городом и миром, над всей жизнью. И единственное, на что он был способен – это открывать и закрывать глаза, и надеяться смиренно, что это он грезит наяву. Ему было так грустно и смешно от того, что вчера он пообещал ей никогда больше не пить, а теперь вот полюбуйтесь на этого сумасшедшего из сумасшедших! И все эти люди – свидетели его слабости, вот они стоят вокруг и ждут, когда же он встанет и уберется – лица, лица, глаза, глаза! О, мои добрые друзья, мои возлюбленные братья и сестры! Ах, как все мы слабы, живущие на земле! Дорогие мои, как мы измучены, измотаны! Вон даже на одной ноге постоять трудно, а как же тяжело ходить. Христиане и друзья по несчастью, до чего ж это тяжко – жить.
Он уже не мог подняться на ноги, а помочь никто не хотел. У всех было только одно желание – дождаться, пока придет полиция и заберет его. И только один мальчик, обыкновенный мальчик, попытался поднять его на ноги, да не смог.
– Боже мой, сынок, – сказал он. – Господь, наш Бог, что на небесах, вознаградит тебя за это когда-нибудь и прольет на тебя свой чистый свет.
И с этими словами он осел на землю со стоном. Больше всего на свете ему нужно было отдохнуть, а до него донесся смех, их смех.
– А вы, букашки, – проговорил он – а вы, крысы помойные. Я – ветеран Мировой войны. Я бродил среди мертвых и умирающих. Я познал голод, жажду, страх и безумие. Окровавленный, я падал на пропитанную кровью землю, я спотыкался о черную вселенскую боль и ненависть. Но я выжил и смеюсь, а теперь ваш черед, козявки. Я буду жить и тогда, когда вы все перемрете, будете похоронены и забыты. Мой дух будет витать над этой землей и тогда, когда погаснет и исчезнет в опустошенной Вселенной последнее солнце. И вообще, кто вы такие, черт вас дери? Вот я – забулдыга, я знаю, что пьян, не надо мне говорить, что я пьян. Я и сам знаю, до какой степени я пьян. Я опьянен знанием, а вы, крысы, опьянены невежеством. Теперь вам ясно? Вам, крысы, нужно заново родиться, пока не помрете, а помереть вы боитесь и жить боитесь. Боитесь дышать, смотреть, говорить, двигаться. Боитесь упасть на улице. Боитесь, что сотворены всего лишь из плоти и крови. Да что ж вы за люди-то такие, а?
1936