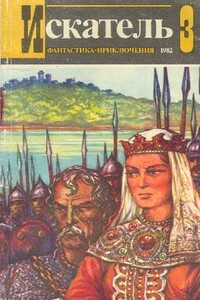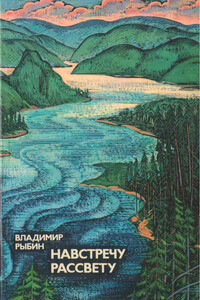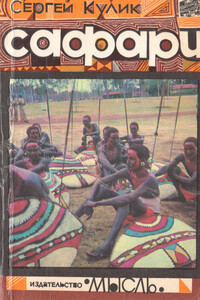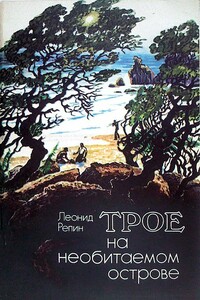Глава I
Это жаркое-жаркое лето
И вновь и вновь взошли на Солнце пятна
И омрачились трезвые умы…
Александр Чижевский
Москву брали в кольцо лесные пожары. На дальних подступах к городу разыгрывались тяжелые сражения с огнем, в которых участвовали войска и «ополченцы» из местного населения.
В московских переулках стоял горький дым, густой, как осенний туман. Москвичи расхватывали «Вечерку» и начинали читать ее со сводок погоды. Сводки были однообразны: сушь встала надолго. «Откуда эта напасть?» — спрашивали люди. Слухи напоминали лесной пожар, просачивались неведомыми путями, вспыхивали, словно сосны на пересохшем болоте.
Каждое утро, выходя в раскаленное жерло улиц, люди с тоской глядели на небо и поневоле думали о чем-то невероятном — об изменении земной орбиты или о падении на Землю солнечного протуберанца, потому что объяснить необычную жару никто не мог. Старики перебирали свои годы и не могли вспомнить ничего подобного. Метеорологи копались в старых сводках и не находили аналогий. За сто лет синоптических наблюдений в Москве столбик термометра только один раз переползал за отметку +38>0 — 7 августа 1920 года. Но чтобы антициклон стоял так долго! (В июле — августе 1972 года было двадцать шесть дней с температурами тридцать — тридцать пять градусов).
Неведомое пугает. Если такого не было, стало быть, то ли еще будет!.. Успокоили историки, аналогию они нашли в летописных записях 600-летней давности: «…Сухмень же бысть тогда велика, и зной и жар мног… реки многи пересохша, и озера, и болота; а лесы и боры горяху, и болота, высохши, горяху, и земля горяше… И мгла велика была, яко за едину сажень перед собою не видети… Смешающиеся с человеки, медведи, волки, лисици и прочая звери… И бысть страх и трепет во всех человецех…»
О, история, верная наша утешительница! Когда бремя страстей человеческих становилось невыносимым, она одна говорила, что все преходяще. Сколько уж раз люди падали духом под тяжестью знамений и невзгод! И неверие овладевало умами, и уныние отнимало силы, и надежда, казалось, уходила навсегда. Только история, собранная в легендах и летописях, в неповоротливости привычек и традиций упрямо напоминала, что все уже было. Что бы ни случилось, всегда находился кто-нибудь, вспоминавший нечто такое же в стародавние времена. И эти воспоминания, зыбкие, как дедушкины сказки, возвращали из небытия вроде бы совсем позабытую Надежду…
Думаю, не одного меня утешили в то лето газетные статьи о закономерностях в жизни нашего Солнца. Роль его сразу словно бы выросла в наших глазах, и мы стали задумываться об общеизвестном, что Солнце — не аналог батареи центрального отопления, что оно существует само по себе… Газеты успокаивали: «Ничего необычного не происходит» — и призывали в свидетели ученых, ссылавшихся на цикличность жизни Солнца. Ученые говорили о 27-дневном периоде повышения солнечной активности, об 11-летнем и 80-лет-нем. Но поскольку погодная аномалия лета 1972 года никак в них не укладывалась, пришлось вспомнить давние догадки о возможности существования 600-лет-него периода. И хоть предположение плохо аргументировалось, оно все же убеждало. Шестьсот так шестьсот, лишь бы наше старое Ярило не выкинуло чего-нибудь неожиданного…
В те дни поголовного увлечения «солнечной модой» мне несказанно повезло: я купил маленькую брошюрку А. Л. Чижевского «В ритме Солнца». «Трудно допустить мысль, что жизнь стоит вне законов, столь отчетливо проявляющихся в неживой природе, с которой она составляет подлинное и неразрывное единство», — писал Чижевский. Это вроде бы само собой разумелось. Но дальше было поразительное: «Солнечное излучение… усиливает или ослабляет движение молекул в вечном круговороте вещества, подчиняя ритм его движения ритму звезд», «Все добытое в науке до последнего времени должно быть пересмотрено и увязано с интенсивностью в работе Солнца!»
Я проглотил эту книжку за одну ночь и ходил потом по улицам, наблюдая, как шарахаются люди от раскаленных тротуаров, прячась в тень домов, и лишний раз убеждался в справедливости утверждения Клода Бернара: «Жизнь отдельного организма — лишь фрагмент жизни Вселенной». Я никак не мог понять, унижает меня или, наоборот, возвышает это низведение до роли «фрагмента», этот знак равенства между Солнцем, человеком и ничтожной травинкой, живущей в том же ритме, так же послушной мановениям дирижерской палочки Великого Космоса.
Такое легче всего осознается в философском отшельническом уединении. Я последовал примеру москвичей, в те дни расхватывавших билеты на поезда и самолеты, идущие куда угодно на север. И, побросав в рюкзак самое нужное, уехал с Савеловского вокзала к берегам моего любимого Рыбинского моря.
Там, где Волга подходит к Рыбинскому водохранилищу, есть высокое взгорье с вековыми вязами над тихими аллеями, с прозрачными березняками, с грибным настоем оврагов. На взгорье стоит памятник знаменитому революционеру, четверть века отсидевшему в камере-одиночке Шлиссельбургской крепости, но не павшему духом, сумевшему стать знаменитым ученым, человеку, пережившему и потрясения, вызванные реформой 1861 года, и тревоги нашей Великой Отечественной войны, почетному академику Николаю Александровичу Морозову. «Пусть труд мой устали не знает. Пусть ум не угасает. И одна лишь мысль пусть меня утешает, что я в свой последний миг умножил запасы человеческих знаний» — так говорил Морозов.