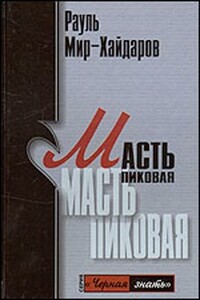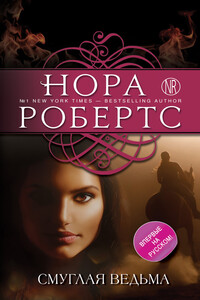В эту осень Камалову снились одни и те же сны… Ночная зимняя улица… Редкие фонари у школы, сельсовета, раймага и последние огоньки почти на окраине — фонари автобазы. Для подъезжающих к Мартуку со стороны Оренбурга эти робкие светлячки среди бескрайней темноты обозначались вдруг ясно и призывно, и, наверное, не было в поселке жителя, не обрадовавшегося хоть однажды столь желанным огням.
«Вот я и дома»,— невольно мелькала мысль или слетала с уст фраза.
Хотя фонари сеяли скудный свет вокруг замерзших столбов, и в этом освещении можно было разглядеть только падающие снежинки, да и то в четко очерченном, в три–четыре шага, световом круге, Камалову казалось, что главная улица родного поселка, Украинская, сияла огнями. Он словно воочию видел усадьбы Губаревых, Панченко, Загидулиных, Мифтахутдиновых, Шакировых, Вуккертов, Бектемировых, Ермоланских… Видел и покосившийся соседский забор, и рассыпанную солому, еще хранившую золотой отсвет осенних полей, и припорошенные снегом осевшие скирды сена, и верблюда в казахском квартале, у Жангалиевых.
А то вдруг в свете прихваченного изморозью фонаря Камалов замечал одинокую девичью фигуру. Каждый раз, когда он пытался подойти к ней, девушка делала несколько неторопливых шагов и исчезала в темноте. Так и не узнанная, но до боли знакомая, переходила она из сна в сон, словно укоряя, что он никак не может вспомнить и узнать ее, и это наполняло душу тревогой и горечью…
Но чаще всего снилось раннее летнее утро. Пыльная дорога, огибая на краю села мусульманское кладбище, убегала в степь. Весь путь от кладбищенского оврага до самой речки Камалов вновь, как в детстве, проделывал пешком.
Выбитая узкими колесами арб дорога среди непаханой степи убегала, извиваясь, к темнеющим купам деревьев. Какой бесконечно долгой казалась в детстве эта дорога в три версты!
Путь этот он проделывал не спеша, с остановками, с отдыхом, с бессчетными погонями за какими-нибудь яркокрылыми бабочками или кузнечиками, с долгими разговорами с соседом–подпаском, пока Бахыт вдруг не обнаруживал, что стадо потянулось к железной дороге. Виной тому всегда был бородатый козел Камаловых — Монгол, злой, надменный вожак, почему-то особенно любивший басовитые гудки паровозов.
Дорога к речке едва заметно поднималась, и перед самым Илеком, на последней версте, неожиданно ныряла вниз с высокого холма в луга. Для степного края, где летом даже полынь выгорала, этот огромный ярко–зеленый луг был щедрым подарком реки. Широко разливался Илек по весне, а когда уходил в берега, вся пойма покрывалась густой зеленой травой. Как ни спешила ребятня на речку или с Илека домой, не могла удержаться, чтобы не затеять возню на зеленых лужайках.
Высоко на холмах, по обе стороны от дороги, словно крепости, стояли длинные немазаные саманные сараи, и летом неподалеку от них всегда белели юрты. Ранним утром, заполняя низину блеянием, спускались с фермы на луга сотни разношерстных овец. Сюда же, поближе к речке и сочным травам, напоенным влагой, выгоняли и общественное стадо из Мартука.
В этих неожиданных снах здесь, на лугах, Камалов увидел много забытых лиц, о которых он и думать не думал и никогда бы в своей жизни, наверное, и не вспомнил. Однажды приснились ему русские мужики, аккуратно нарезающие дерн. Он ясно видел их лица, слышал разговоры, шутки, смех и вспомнил, что жили они на другом краю села, у церкви. Вспомнил, что у одного из них в огороде росли огромные, со сковороду, подсолнухи.
Вспомнил, как однажды компанией, проголодавшись на речке, зашли на ближайшую ферму попросить хлеба. А просить и не пришлось. Маленькая старушка в красном бархатном жилетике, несмотря на жаркий день, увидев неожиданно появившихся у юрты ребят, сказала бритоголовому Сапару по-казахски:
— Рады гостям, приглашай-ка друзей в дом,— и откинула полог белой юрты.
В прохладе и сумраке летнего жилья, расположившись на кошмах, ребята корчили друг другу рожи и смеялись по-детски беспечно и беззаботно.
Потом Камалов, забыв о голоде, не мог оторвать глаз от тонких, с пергаментной кожей рук в тугих обхватах серебряных браслетов, разливавших в деревянные тустаганы прохладный айран, щедро заправленный сметаной, и ломавших только что испеченные горячие лепешки таба–нан, слышал ласковое приглашение старушки: «Ешьте, ешьте, орлята…»
И еще он помнит, что не мог отвести взгляд от гербов на крупных монетах, пришитых к груди ее красного жилетика.
А когда они, уходя, благодарили за угощение, в тени саманной фермы Камалов увидел старика с редкой седой бороденкой. Старик чинил сбрую, а рядом с ним сидел мальчик и помогал деду сучить суровую нитку. Камалов вспомнил всех троих до мельчайших подробностей, до морщин, и даже во сне ужаснулся тому, что давным–давно нет на свете доброй бабушки и невозмутимого, согнутого годами старика, чинившего сбрую, и что живет где-то своей жизнью его ровесник, кареглазый, белозубый мальчик, которому, наверное, тогда так хотелось в компанию сверстников.
Конечно, каждый раз снилась ему и река. Здесь, на реке, под кручей, на долгих мелких перекатах с отчетливо просматривавшимся дном или у затонов, заросших у берега сочной осокой, с корягами, притаившимися в глубине, перед Камаловым возникали лица друзей и одноклассников: Хамзы Кадырова, Саши Варюты, Генки Лымаря, Ефима Беренштейна, Саши Бектемирова, Толика Чипигина, а то вдруг объявлялся кто-то, стоящий к нему спиной, вылавливающий из Илека одного подуса за другим. Между делом рыбак успевал переброситься с ним парой фраз, но вот жалость-то: никак лица не разглядеть и никогда уже не узнать, кто же это в тот день был таким счастливчиком.