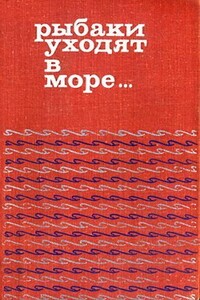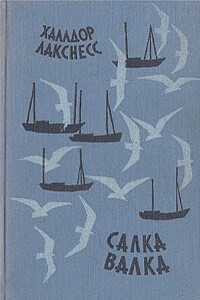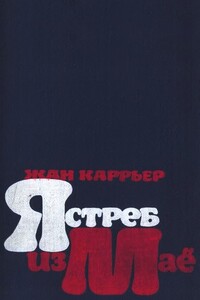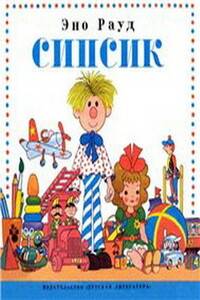За изгородью выгона с тихим журчанием течет ручеек.
Птице, сидящей на изгороди, и в голову не приходит, что лай собаки возвещает приближение незнакомцев, она продолжает невозмутимо чистить перышки. Незнакомцы оставили лошадей на не скошенном с лета выгоне и без стука вошли в дом. Никто не ответил на их приветствие. Только собака во дворе все не унималась.
Из угла, с убогой кровати, послышался голос, такой слабый и приглушенный, точно раздавался он в телефонной трубке и шел откуда-то издалека:
– Кто это там?
– Мы, те, за кем ты посылал, дорогой Кнут: председатель общины, староста и я, пастор.
Мужчины подошли ближе, чтобы поздороваться, но старик не заметил протянутых рук, и пожатие не состоялось. Старик совсем высох: казалось, под одеялом ничего нет. Суставы его грубых худых рук, обезображенные многолетним общением с примитивными орудиями труда, теперь побелели от долгого бездействия. Кожа на впалых щеках стала прозрачной, а борода – он лежал на спине – торчала вверх, как клок высохшей травы.
– Ну-ну, бедняга, как ты тут? – спросили вошедшие.
– Хорошо, – ответил старик. – Все идет своим чередом. Дни помаленьку уходят, и к вечеру придет мой конец. Не такой уж я сильный, как вы думаете. Ну, а у вас что нового?
– Нужна тебе наша помощь?
– Старая Бьяма при мне. Она и воды поднесет или еще чего. Послушай, Бьяма, заткни-ка глотку этой суке, что она там лает. Еще лошадей спугнет.
Из каморки за печкой послышалось ворчание:
– А чего ей не лаять, на то и собака, чтобы лаять.
– Есть-то ты можешь хоть помаленьку, Кнут?
– Сколько наработал, столько и ем.
– А как насчет табачку, нюхаешь? – спросил один из пришедших, доставая табакерку.
– Нет, – вздохнул старик. – Единственное, о чем я жалею, – это что вволю не побаловался табачком при жизни. Ох, как жалею.
– Должно быть, недаром тебя прозвали Кнут Твердый Орешек, – сказал тот, что достал табакерку.
– Ну хорошо, мой друг, – начал пастор. – Чем мы можем быть тебе полезны?
– Да ничем, – отозвался Кнут. – Просто мне пришло в голову составить завещание.
– Ишь, завещание писать надумал!.. – послышалось из каморки.
– Много ли останется от твоих сбережений, если вычесть все, что пойдет на похороны? – спросил председатель общины.
– Я никогда не был никому в тягость, – заметил старик, – и должен сказать, что по всем вашим законам я считаюсь владельцем хутора.
– Владелец владельцу рознь. Это смотря как взглянуть на дело.
– Да твоего хутора едва хватит, чтобы погасить твои долги, – вставил староста. – Ты столько лет кряду земельный налог не платил, не говоря уже о страховке от пожара и коммунальном налоге.
– Я вас никогда ни о чем не просил и не потерплю ваших вымогательств. Я сам построил себе хижину и могу сжечь ее, коли пожелаю. И вот прежде всего я хочу распорядиться, чтобы мою халупу спалили, как только меня отсюда вынесут.
Мужчины недоуменно переглянулись. Пастор что-то пометил в записной книжке. Наконец один из них заговорил:
– Ну что ж, поскольку в хижине нет никаких ценностей, то сжечь ее не жаль. Хутор останется хутором и без этого жалкого дома, он-то и перейдет в собственность общины, дорогой Кнут.
– Я перебрался сюда через много рек, чтобы стать вольным человеком. Коли вы собираетесь забрать землю в счет недоимки и страховки от пожара – что же, дело ваше. Я только прошу записать в завещании, что любого, кто осмелится прибрать к рукам эту землю, я объявляю вором.
Пастор продолжал что-то записывать, двое других спросили:
– Кому же достанется земля, когда тебя не станет?
– Земля моя никому не принадлежит и не будет принадлежать. Такова моя воля, таково мое завещание.
– У тебя дети в дальних приходах, Кнут. Они-то что скажут? – заметил староста.
– Что мне дети! – отрезал старик. – Как только дети перестают быть детьми, они становятся такими же чужими, как все остальные люди.
– А не наоборот ли? – сказал пастор. – Наши дети, перестав быть детьми, становятся нашими лучшими друзьями.
– Я никогда не стремился завести друзей. Жить вольным, не подчиняясь вашим законам, где-нибудь подальше от людей, – вот о чем я всегда мечтал.
– Что ты там ни говори, но даже самые что пи на есть отверженные не могут оборвать всех связей с людьми. Ну, хотя бы когда они крадут овец у хуторян в горах. Но тебя, дорогой Кнут, бог как будто миловал этой слабости.
– Что правда, то правда. Плохой из меня был отверженный, – согласился старик.
– Кроме того, – продолжал пастор, – способность человека говорить дает ему возможность обмениваться словами и мыслями с другими людьми. Это же куда лучше, чем говорить с самим собой. Так что никак нельзя отрицать пользу общения.
– Какой толк, что я умею говорить! – воскликнул старик. – По-моему, человеческая речь – самая большая напасть в мире. Вот я и выхожу из игры.
– И тем не менее ты говоришь, Кнут.
– Большое несчастье постигло человечество, когда люди стали составлять слова – вместо того чтобы петь. Едва человек в незапамятные времена произнес первое слово, родилась ложь.
Но взаимопонимание двух душ, любовь между женщиной и мужчиной – что было бы с нами без этого? По-моему, тот, кто это отрицает, перестает быть человеком. Даже отверженным.