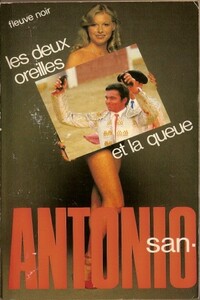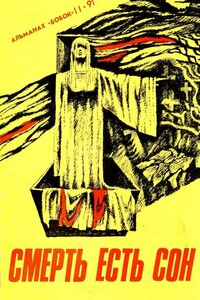Моей жене посвящаю
…"Теперь мы живем в лесу, а перед нами цветущий луг. Я высовываю нос из окопа и жадно вдыхаю его запахи. Даже странно, что такая красота — это поле боя, что в пятистах метрах от нас немцы. Недалеко от наших позиций я вижу большой красный цветок. Я не знаю, как он называется, но он очень красив, и мне хочется сорвать его для… Вас. Я знаю, он завянет, засохнет, пока дойдет до Москвы, а может, его выбросит из конверта военная цензура — скажет, вот сантименты, но я вес равно сорву его. Правда, это не так просто. На этот луг не то что выйти нельзя, нельзя даже высунуть голову из окопа — сразу несколько пуль впиваются в бруствер. Но это днем, а ночью можно будет сползать. Только найду я его ночью или нет, не знаю. Постараюсь…"
Сейчас я совершенно не помню внешность Юры Ведерникова, приславшего мне это письмо. Плохо представляла я его и тогда, в мае сорок третьего, когда совсем неожиданно получила от него первое послание, поразившее меня обращением на "вы" и довольно связным изложением своих мыслей.
Конечно, излечившиеся раненые писали мне с фронта, но большей частью их письма были малоинтересны дружески-шутливые, порой малограмотные и без всяких намеков на высокие чувства, так как, видно, всерьез меня не принимали — уж слишком я была еще девчонка. А тут — на "вы" с большой буквы, с неглупыми рассуждениями, между строк которых читалось что-то для меня очень приятное…
Лежал Ведерников не в нашем отделении, а в пятом, находившемся на втором этаже. Наверное, я не раз сталкивалась с ним, когда по каким-либо делам спускалась туда, ну и, конечно, видела его на наших вечерах. Возможно, это был тот мальчик с перевязанной головой, который всегда как-то задумчиво и внимательно глядел на меня?
Но в то время я не обратила на него внимания — у меня бурно проходила очередная влюбленность в одного очень тяжело раненного танкиста с обожженным, изуродованным лицом, за которым я готова была ухаживать всю жизнь.
У меня вообще все не так, как у людей! Мои подружки влюблялись в красивых легкораненых ребят, с которыми можно было и уединиться где-нибудь в коридоре, и потанцевать на очередном вечере… Я же влюблялась только в самых тяжелых безногих, безруких, черепников, с которыми не то что потанцевать, но и поговорить-то порой было трудно, настолько они были удручены своими ранениями, настолько им было не до меня…
Забегая вперед, скажу, что, когда моя очередная любовь начинала выздоравливать, подниматься с постели, когда бледность сменялась румянцем поправляющегося больного, мои чувства куда-то улетучивались, и какое-то время я ходила опустошенная, скучная, безразличная, пока не прибывала новая партия раненых и среди них я не находила опять какого-нибудь самого покалеченного, самого тяжелого и мое сердце не наполнялось необыкновенной жалостью, которая довольно скоро перерастала во влюбленность, и опять я думала, как я ему буду нужна, как буду ухаживать за ним, и, конечно, всю жизнь…
Итак, несмотря на то, что я очень туманно помнила этого Юру Ведерникова, я, конечно, засела за ответное письмо. А как же не ответить человеку, находящемуся на фронте? Ведь мы, девчонки, нужны нашим мальчикам не только тогда, когда они лежат беспомощные на госпитальной койке, но, наверно, и тогда, когда они выздоровели и находятся на передовой. Я ответила, не скрыв то, что я его почти не помню.
"Привет с фронта! Нина, здравствуйте!
Спасибо большое за письмо. Я, конечно, понял, что Вы ответили мне просто так, чтоб не обидеть меня. Ну какая другая могла быть причина, раз Вы меня совсем не помните? Ведь так?
У меня есть фотография, но очень плохая. Не знаю, даст ли она Вам представление обо мне, но если Вы пожелаете, то могу послать. Может быть, вспомните меня тогда? Я довольно высокий, блондин, мне уже двадцать лет, был дважды ранен, и у меня две награды — "звездочка" и "За отвагу". Не вспомнили? Хотя что я? В таком большом госпитале, как наш, было столько высоких блондинов, а вокруг Вас толпилось столько ребят, что вспомнить меня среди них, разумеется, невозможно, тем более что моя внешность ничем особым не отличается. Но Вы угадали одно — я довольно долго ходил с перевязанной головой. Кроме основного ранения в руку, у меня была осколком поцарапана голова.
Сейчас у нас на фронте затишье, но что-то томит, и настроение немного тоскливое. Вы знаете, мы ведь все время бодримся и в разговорах друг с другом, и в письмах родным, но умирать все-таки очень и очень не хочется. Особенно сейчас, когда весна. Хотите — верьте, хотите — нет, но я еще ни разу не целовался с девушкой… Вы спросите, почему так получилось? Сам не знаю.
В госпитале, когда я видел Вас (это было не часто, увы), мне очень хотелось поцеловать Вам руку. Почему-то именно руку. Один раз я было совсем решился… Вы-то не помните. Вы стояли на лестничной клетке, и я что-то спросил Вас, чтоб завести разговор. Вы что-то небрежно ответили. По-моему, Вы ждали кого-то, потому что все время оглядывались. А я будто случайно дотронулся до Вашей руки и хотел было взять ее и поднести к своим губам, но… кто-то спускался по лестнице… До сих пор не могу простить себе свою робость. Сейчас бы я вспоминал об этом…"