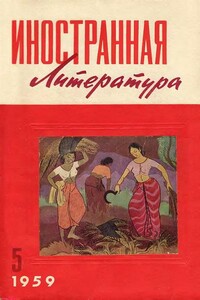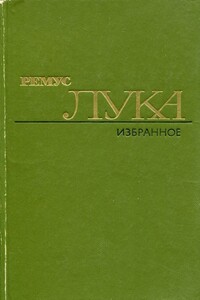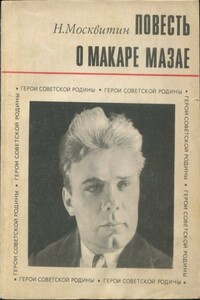Вокруг расстилалась бескрайняя равнина, покрытая пологими холмами, которые в этом году остались необработанными. По ним лениво вилась бесконечная пыльная дорога. Вдоль нее не видно было ни крыши, ни колодца, и далеко, до самого горизонта, нельзя было заметить никаких признаков человеческого жилья. Стоял жаркий безоблачный день. Даже слабое дуновение ветерка не освежало горячего воздуха.
По дороге, открытой палящему солнцу, двое вооруженных солдат вели двух арестованных молодых женщин. Обоим конвоирам было далеко за сорок, и, судя по длинным винтовкам с гранеными штыками времен первой мировой войны по стоптанным ботинкам, по заношенной форме, они должны были принадлежать к патрульному отряду, хозяйственной роте или гарнизону какого-нибудь захудалого городка. В их расстегнутых кителях, сдвинутых на затылок фуражках и болтавшихся на спинах винтовках не было ничего воинственного. Солдаты лениво брели, курили одну за другой толстые цигарки, свернутые из газетной бумаги, и то и дело вытирали лоб черными, давно не стиранными платками. Так шли они с рассвета, и весь их облик свидетельствовал об усталости, нерешительности и подавленности, характерных для румынских солдат периода третьего года войны. Кроме того, им было страшно на этой пустынной дороге, отдаленной от главных коммуникаций, где вот уже в течение семи-восьми часов они не встретили ни одной живой души. Покрытые потом и пылью, разбитые усталостью, они шли все медленнее и медленнее.
У одного из конвоиров, сержанта, была своеобразная, легко запоминавшаяся внешность: длинные венгерские усы, широкие скулы, маленький, словно срезанный подбородок, короткая шея, красивые голубые глаза, опушенные длинными ресницами. Он, казалось, был чем-то озабочен, почти не разговаривал и то и дело оглядывался. Лицо его искажалось гримасой каждый раз, когда он встречался глазами со своим спутником.
Второй солдат— рядовой, уже совсем седой и сгорбленный, со смуглым морщинистым лицом — выглядел таким измученным, что было удивительно, как он до сих пор справляется с тяжелой винтовкой и болтавшимся где-то сбоку мешком с продуктами. Он говорил еще меньше, чем сержант, и выглядел еще более озабоченным. Его черные, глубоко запавшие глаза под густыми бровями были мутными, как у больного или подвыпившего человека.
Женщины старались держаться бодро и казались совсем юными, почти девочками. Их простые яркие ситцевые платья были измяты и порваны во многих местах. В походке женщин было что-то связанное, принужденное; они шли, держась за руки, и грусть временами застилала их глаза, обращенные к холмам, покрытым сожженной зноем травой. Одна из них — рыжеватая блондинка, маленькая, полная, с круглыми щеками и коротким вздернутым носом — храбрилась; вторая — хрупкая, с черными коротко остриженными волосами и заплаканными глазами — выглядела смертельно уставшей и едва волочила ноги по дорожной пыли.
После поворота, казавшегося бесконечным, вдали возникла темная полоска. Где-то, в невидимом отсюда месте, дорога входила в густую и дремучую чащу.
— Вот и лес, — глухо проговорил сержант.
— Да, — ответил, не глядя, солдат, и голос его прозвучал совсем равнодушно.
— Еще далеко. Час, а то и два пути.
— Возможно.
— А потом еще два часа до Н. Туда ведь мы их должны отвести. То есть сдать. Потом отправимся обратно.
— Выходит так…
Однако сержант знал, что они не должны доставлять женщин в Н. Письменный приказ, сложенный вчетверо и засунутый за подкладку фуражки, сопровождался другим, который майор Гежа сообщил ему с глазу на глаз. Фира должен был сказать солдату об устном приказе еще пять часов назад, когда они находились в двух километрах от комендатуры. Так гласила инструкция. А выполнить приказ надлежало у входа в лес. Но сержант ничего не сказал Мындруцу. Все не мог улучить для этого подходящей минуты. У этого майора губа не дура, думал Фира, хочет чистеньким остаться. Если ему придется когда-нибудь отвечать даже перед самим господом богом, он и глазом не моргнет. Скажет, что вручил начальнику конвоя сержанту Фире письменный приказ доставить арестованных в десятую дивизию для доследования. Но дорога шла лесом и…
Сержанту хотелось поделиться своими мыслями с Мындруцем, но кто знает, что за птица этот солдат.
— Давай отдохнем немного, — предложил Фира.
— Давай.
Они присели у обочины на сухую траву. Сержант с любопытством и беспокойством взглянул на своего спутника. Мындруц грустно смотрел на женщин, остановившихся шагах в десяти от них. Лицо солдата показалось сержанту еще чернее и морщинистей, чем обычно. Почему он такой пришибленный, устал что ли? — думал Фира. Откуда ему знать, что приказал мне майор Гежа? Он тоже с волнением посмотрел на девушек и махнул им рукой, чтобы садились.
Солдаты отвязали фляги и принялись с жадностью пить.
— Дадим и им по глоточку, — сказал Мындруц, показывая на девушек, мучимых жаждой.
— Не знаю уж как и быть. Устав запрещает.
— А сердце твое что говорит? Может быть, завтра или послезавтра они, бедняги, будут уже на том свете. Тогда замолвят там за нас доброе словечко.
Фира почувствовал, как все его тело сотрясается от неудержимой внутренней дрожи. Он пристально смотрел на Мындруца, но тот уже как будто забыл о нем и внимательно рассматривал свои белые от пыли, непарные, рваные ботинки.