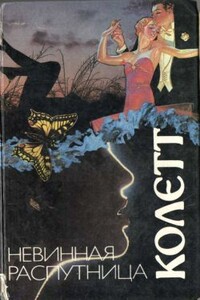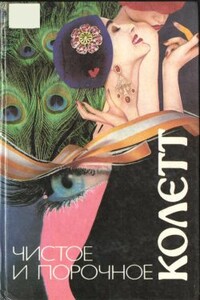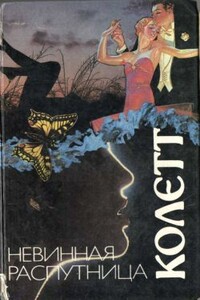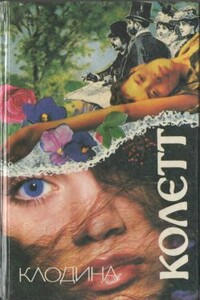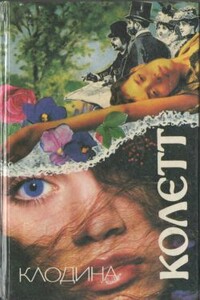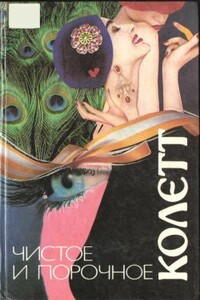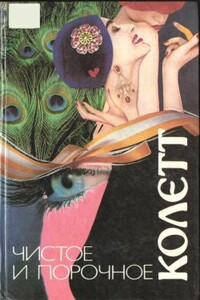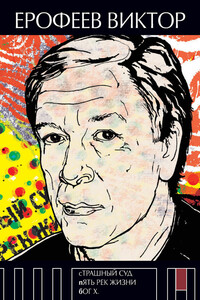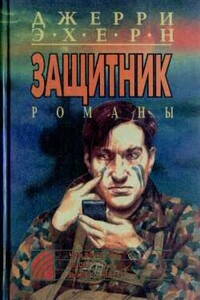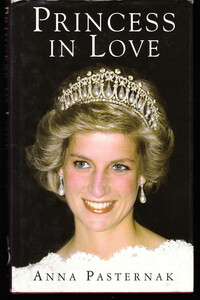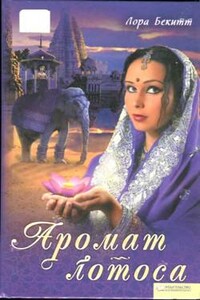Даже то немногое, что женщина может оценить в самой себе, ей не разглядеть в неподвижном круге, который высвечивает одна и та же лампа, зажигаемая на одном и том же столе. Но чего я достигла, поменяв лампу, стол и даже комнату? В меня закралось подозрение, которое тут же перешло в уверенность, что все страны покажутся мне похожими друг на друга, если я не открою секрет, как изменять свой взгляд на них благодаря тому, что изменяюсь сама. Миновало время, когда я могла рассчитывать на свой надёжный здравый смысл! Надёжный разум женщины… С тем же успехом можно говорить о «надёжности» японского домика с бумажными стенами. Куда подевались моя невозмутимость и хвалёная разумность? Я так разволновалась, что меня буквально затрясло как в лихорадке, и всё от случайной встречи на Английской набережной.
А ведь, собственно говоря, ничего особенного не произошло, такая встреча была неизбежна, и можно только удивляться, что она не случилась раньше… Там, на набережной, он прошёл мимо, не заметив меня, – он, тот, кто хотел дать мне своё имя, свою любовь, подарить своё верное сердце. По правую руку от него шла молодая женщина, а по левую – совсем крошечный ребёнок, едва научившийся ходить, круглый, как шарик. Он не увидел меня, потому что всё его внимание, трогательное и торжественное, даже как-то слегка глуповатое, было приковано к младенцу, который ковылял сбоку, готовый упасть на каждом шагу. Долговязый Мужлан прошёл так близко от меня, что я смогла разглядеть его длинные колючие ресницы и галстук, затянутый слишком туго, словно навсегда. Он был удивительно похож на себя, и я едва удержалась, чтобы не протянуть, как когда-то, руку и чуточку не ослабить этот злополучный узел да поглубже засунуть платочек, слишком уж вылезший из верхнего кармана пиджака. Сейчас мне страшно при мысли, что я могла бы всё это проделать. Он настолько не почувствовал меня рядом с собой, настолько не догадался, что я где-то поблизости, что мне показалось: меня уже нет в числе живых, я не более чем привидение, сквозь которое он может пройти. Странным образом мне и в голову не пришло разглядывать его жену и его ребёнка. Они спокойно продолжали свою прогулку вдоль моря.
Меня трясёт не от любви и не от горя. Есть ли доля сожаления в смятении, охватившем меня? Шок, словно удар молнии, поразивший меня, обнажил всю меру хрупкости моей натуры куда больше, нежели моя маниакальная мечтательность, которая позволяет мне ежедневно обманываться насчёт своей мудрости. Если вам угодно, я предаюсь, так сказать, медитации… Но не бывает мудрых медитаций. Всякая регулярная медитация содержит в себе что-то от бреда. Она граничит с кризисом, с неким спровоцированным экстатическим состоянием, вне зависимости от того, причиняет ли оно душевную боль или нет…
И вот я снова принялась обобщать, причём чисто по-женски. Что ж, тем лучше! Бывают такие моменты, когда мне нравится быть просто бабой. Словно таким способом я убеждаюсь, что ещё представляю какой-то интерес в любовных делах.
Хотелось ли мне, чтобы он меня увидел?.. Нет, мне это ни к чему. Я с трудом произношу его имя, его громоздкое имя: Максим Дюферейн-Шотель… Я уверена, что не люблю его. Но ведь всё же этот человек олицетворял в моей жизни любовь, приключение и даже сладострастие. Видимо, поэтому меня прошиб такой озноб и что-то всколыхнулось во мне. Эти губы, эти руки, это крупное жаркое тело, всё это вместе взятое три года тому назад едва не стало моим любовником… Интересно, а случись так, что он был бы там, на набережной, один и обратился бы ко мне, – назвала бы я его «Макс» или «мой дорогой»? А может, ограничилась бы нейтральным «вы»? У него был немыслимо женатый вид, но такой вид был у него, не сомневаюсь, с самого рождения. Жену и ребёнка он выставлял напоказ, словно покупки, только что сделанные в магазине на площади Массена…
Постараюсь быть искренней… Я не кинулась прочь от него, но скрылась в неподвижности, только она могла утаить меня от его взгляда – заяц в минуты опасности плашмя застывает на земле: он знает, что на борозде его не видно. Любой жест руки в белой перчатке на фоне моего тёмного платья, несомненно, привлёк бы его взгляд – я даже испугалась, что он резко повернётся на запах моих духов, всё тех же… Я не хотела, нет-нет, не хотела. Я залилась краской, словно женщина, которую застали в бигуди. К тому же у него столько новых приобретений: свежеиспечённый ребёнок, жена, вся в мехах и перьях, трость, которой в моё время не было. А у меня… Меня унижал его вид преуспевшего человека. Мне нечего ему показать, кроме костюма, который на мне, ну и, конечно, красивой шляпки да слегка изменённой причёски. Быть может, он стал бы выглядывать, что нового во мне и вокруг меня, и произнёс бы с разочарованной гримасой: «И это всё?..»
Я испытывала, да, надо прямо сказать, нехороший стыд за свою бедность… В этом году он даже не увидел на стенах домов в Ницце больших оранжевых афиш с чёрными буквами, оповещающих о гастролях Рене Нере, потому что Рене Нере больше не выступает. Я стала чем-то вроде мелкого рантье – вот и всё, что я могла бы сообщить ему о себе, если бы он поинтересовался, как я живу. Да, я теперь мелкий рантье – не богатая, но и не бедная, уже не молодая, но ещё не старая, не счастливая, но и не несчастная…