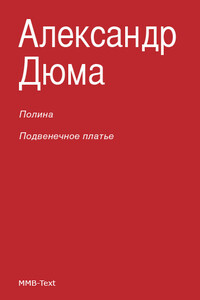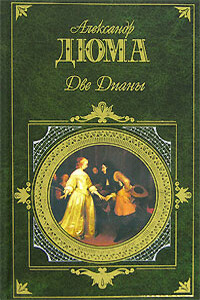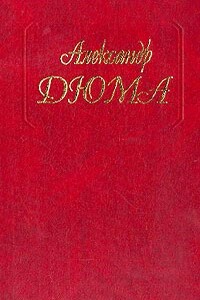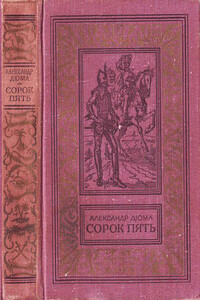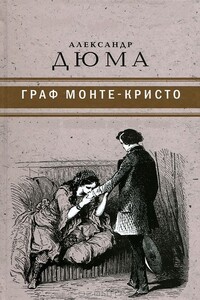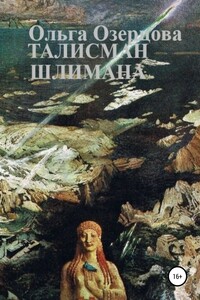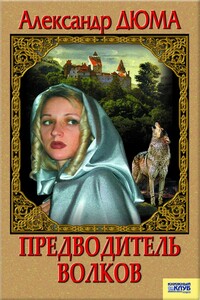Однажды субботним вечером в конце 1834 года мы сидели в маленькой комнате, смежной с фехтовальной залой Гризье. С рапирами в руках мы курили сигары и заслушивались учеными теориями нашего профессора, которые порой прерывались анекдотами. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел Альфред де Нерваль.
Те, кто знают о моем путешествии в Швейцарию, вероятно, вспомнят этого молодого человека, везде сопровождавшего одну таинственную даму, лицо которой всегда скрывала вуаль. Эту даму я в первый раз увидел во Флелене, когда бежал с Франциско к шлюпке, что должна была доставить нас к камню Вильгельма Телля. Читатели также вспомнят, что Альфред де Нерваль, которого я надеялся иметь своим товарищем в дороге, вместо того чтобы подождать меня, приказал гребцам отплывать, и, оставляя берег в ту самую минуту, когда я был в пятистах шагах от него, сделал мне знак рукой: и прощальный, и дружеский одновременно. Я понял его так: «Виноват, любезный друг! Очень бы желал тебя видеть, но я не один и…» На это я ответил другим знаком, которым хотел выразить, что прекрасно его понимаю. Остановившись, я поклонился в знак повиновения этому решению, чрезвычайно строгому, как мне казалось тогда, ведь из-за отсутствия других шлюпок и гребцов я не мог отправиться в путь ранее другого дня. По возвращении в гостиницу я спросил, не знает ли кто, что за женщина была с Альфредом де Нервалем. Мне ответили, что о ней известно только то, что, по-видимому, она очень больна и что зовут ее Полиной.
Я уже успел забыть об этом, когда у источника горячих вод, наполняющих купальни Пфеферса, увидел под длинной подземной галереей Альфреда де Нерваля, подающего руку той самой даме, которую я встречал уже во Флелене, и которая там пожелала остаться неизвестной. Я заметил, что она и на этот раз хотела сохранить инкогнито, потому что поспешила возвратиться назад. К несчастью, дорожка, по которой мы шли, не позволяла повернуть ни вправо, ни влево. Это был своего рода мост, составленный из двух досок, мокрых и скользких, которые, вместо того чтобы быть переброшенными через пропасть, в глубине которой по мраморному ложу катилась Тамина, тянулись вдоль стены подземелья, уложенные на бревна, вмурованные в скалу. Таинственная спутница моего друга, увидев, что бежать некуда, опустила вуаль и двинулась мне навстречу.
Она, бледная и легкая как тень, произвела на меня неизгладимое впечатление, когда бесстрашно прошла по краю бездны, словно принадлежала уже другому миру. При ее приближении я прижался к стене, чтобы оставить ей как можно больше места. Альфред хотел, чтобы его спутница прошла одна, но она все не решалась оставить его руку, так что на какой-то миг, короткий как вспышка молнии, мы втроем очутились на островке не более двух футов[1] в ширину. Эта странная женщина, подобно фее, склонившейся с берега к водным потокам, волосы которой плещутся в пене каскадов, чудом прошла по краю пропасти; однако не так скоро, чтобы я не разглядел бледного и спокойного лица ее, изнуренного страданием. Тогда мне показалось, что я не в первый раз его вижу. Оно пробудило во мне темное воспоминание о другом времени, воспоминание о гостиных, балах, праздниках. Мне казалось, что я знал эту женщину раньше, но не такой измученной и печальной, как теперь, а веселой, румяной, увенчанной благоухающими цветами, кружащейся в упоительном вальсе или шумном галопаде[2]. Где же это было? Не знаю!.. В какое время? Не могу сказать!.. Она была мечтой, эхом моих воспоминаний, чем-то неопределенным и едва уловимым, что ускользало от меня, словно призрачное видение. Я вернулся к купальням Пфеферса через полчаса, надеясь вновь ее увидеть. Я готов был даже прибегнуть к дерзости, чтобы достигнуть своей цели, но не нашел там ни ее, ни Альфреда.
Прошло два месяца после этой встречи, я находился в Бавено, подле озера Маджиоре. Стоял прекрасный осенний вечер: солнце скрылось за горной цепью Альп и с востока, где все ярче проявлялись россыпи звезд, надвигалась тень. Окно мое выходило на террасу, покрытую цветами; я спустился с нее и очутился в лесу лавровых, миртовых и апельсиновых деревьев. Цветы так хороши, что мало быть подле них: хочется наслаждаться ими, и где бы их ни находили – в поле, в саду, кто бы их ни находил – дитя, женщина или мужчина, – следуя какому-то естественному побуждению, они срывают их и делают букет, чтобы благоухание и прелесть цветов всегда были с ними. И я не устоял перед искушением и сорвал несколько ароматных веток. Затем я направился к парапету из розового мрамора, который возвышался над озером, отделенным от сада большой дорогой, ведущей из Женевы в Милан. Едва я дошел до него, как луна показалась из-за Сесто, и лучи ее скользнули по горным пикам, видневшимся на горизонте, и по воде, спавшей у ног моих, блестящей и неподвижной как огромное зеркало. Все замерло: ни единого звука не было слышно на земле, на озере, в небе, и в этом величественном и меланхолическом безмолвии ночь вступала в свои права. Вскоре в густых кронах деревьев, которые возвышались по левую сторону от меня, и корни которых омывала вода, зазвучала песнь соловья, гармоничная и нежная. То был единственный звук, нарушавший тишину ночи; он длился с минуту, звонкий и мерный; потом вдруг рулада оборвалась. Этот шум как будто пробудил другой, но совсем иного свойства: вдали раздался стук колес экипажа, ехавшего от дома д’Оссола. В это время соловей опять начал петь, и я слушал только птичку Джульетты. Когда она смолкла, я уловил вновь стук колес приближавшегося экипажа, двигавшегося очень быстро. Однако ж, несмотря на скорость его движения, мой мелодический певец успел начать очередную свою ночную молитву до его появления. Но на этот раз, едва он пропел последнюю ноту, я приметил на повороте из лесу коляску, которая неслась по дороге, проходившей мимо гостиницы. В двухстах шагах от нее кучер хлопнул бичом, чтобы дать знать о прибытии своему собрату. В самом деле, почти тотчас тяжелые ворота гостиницы заскрипели на своих петлях, и вывели новых лошадей; в эту самую минуту коляска остановилась под террасой, на перила которой я опирался.