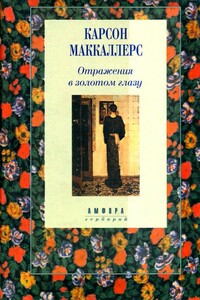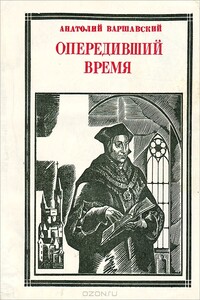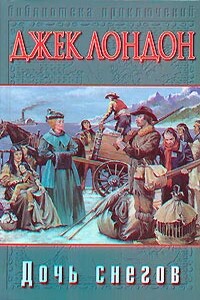Перевела Анастасия Грызунова
Рассказ публикуется на русском языке впервые. Он вошел в сборник прозы Карсон Маккаллерс (1917–1967) «Озарение и ночная лихорадка», который готовится к публикации в издательстве «Независимая газета».
Гансу оставался всего квартал до гостиницы, когда начался зябкий дождь, вымывший весь цвет из огней, только что зажженных на Бродвее. Светлые глаза Ганса задержались на вывеске «Колтон–Армз». Он сунул ноты под пальто и поспешил дальше. С трудом отдышался в тусклом мраморном вестибюле. Ноты помялись.
Ганс неопределенно улыбнулся лицу напротив.
— На этот раз — третий этаж.
Всегда видно, что думает лифтер о постоянных жильцах гостиницы. Когда выходят те, кто пользуется особым его уважением, он еще мгновение, услужливо изогнувшись, придерживает дверь. Гансу пришлось слегка отпрыгнуть, чтобы скользящие двери не укусили за пятки.
Польди…
Ганс нерешительно остановился в сумрачном коридоре. В другом конце звучала виолончель — последовательность нисходящих фраз, что в беспорядке сталкивались друг с другом — точно горсть стеклянных шариков, скачущих по лестнице. Дойдя до комнаты, откуда доносилась музыка, он остановился перед дверью. К ней была прикноплена бумажка с шаткими буквами.
Польди Кляйн
Просьба не беспокоить во время репетиций
Ему вспомнилось, что в первый раз, когда он это увидел, в слове «репетиций» перед «ций» стояло «ва».
Похоже, почти не топили; складки пальто отдавали влагой, от них слегка веяло холодом. Он присел возле чуть теплой батареи у окна — не помогло.
Польди — я так долго ждал. Множество раз бродил снаружи, дожидаясь, пока вы закончите, и обдумывал слова, которые хочу вам сказать. Gott[1] Такая красивая — как стихотворение, как песня Шумана. Как‑нибудь так начать. Польди…
Рука поползла по ржавому металлу. Теплая — она всегда теплая. Если ее обнять, он, наверное, язык проглотит.
Ганс, ты же знаешь, другие для меня ничего не значат. Джозеф, Николай, Гарри — все знакомые парни. И этот Курт — всего три раза, не может быть, — ну, я о нем рассказывала на той неделе — пфф! все они ничто.
До него дошло, что руки его мнут ноты. Он опустил глаза: аляповатая обложка вымокла и расплылась, хотя листы внутри не пострадали. Дешевка. Ох, ладно --
Он прошелся по коридору, потирая прыщавый лоб. Виолончель застонала еще выше в невнятном арпеджио. Этот концерт — Кастельнуово–Тедеско[2]— долго она еще будет репетировать? Он на секунду остановился и потянулся к дверной ручке. Нет, в тот раз он вошел, а она посмотрела — посмотрела и произнесла…
Музыка буйно раскачивалась в мозгу. Пальцы подергивались, будто он аранжировал оркестровую партитуру для фортепиано. Вот сейчас она должна наклониться, руки скользят по грифу.
В болезненном свете из окна большая часть коридора оставалась полутемной. В неожиданном порыве он упал на колени и ткнулся глазом в замочную скважину.
Только стена и угол; она, наверное, возле окна. Лишь фотографии вылупились со стены — Казальс[3] Пятигорский [4] этот, который на родине ей нравился больше всех, Хейфец[5] — а между ними затерялись пара валентинок и рождественских открыток. Ближе всех висела картинка под названием «Заря»: босоногая женщина с розой в руках, — на раме болтается грязно–розовый бумажный колпак, подаренный на прошлый Новый год.
Музыка вздыбилась до крещендо и оборвалась несколькими торопливыми аккордами. Ах! Последний — на четверть тона ниже. Польди…
Он поспешно поднялся и, пока репетиция не возобновилась, постучал в дверь.
— Кто там?
— Я — Г–Ганс.
— Хорошо. Можешь войти.
Она сидела в угасающем свете у окна во двор, неуклюже раздвинутыми ногами сжимая виолончель. Как он и предполагал, подняла брови и уронила на пол смычок.
Он уставился на струи дождя за оконным стеклом.
— Я — я только зашел показать вам новую песенку, которую мы сегодня играем. Ту, что вы предложили.
Она одернула юбку, задравшуюся до резинок чулков, и этот жест притянул его взгляд. У нее выпирали икры, на одном чулке — короткая дорожка. Прыщи у него на лбу вспыхнули, и он вновь украдкой принялся разглядывать дождь.
— Ты снаружи слышал, как я играю?
— Да.
— Послушай, Ганс, это возвышенно звучало? Пело, поднимало тебя в высшие сферы?
Она раскраснелась, капелька пота побежала по ложбинке меж грудей и исчезла в разрезе платья.
— Д–да.
— Вот и я думаю. Я считаю, моя игра за последний месяц стала гораздо глубже. — Она энергично пожала плечами. — Со мною жизнь так поступает — всякий раз, когда что‑нибудь подобное случается. Не сказала бы, что так было и раньше. Играть можешь, только если страдал.
— Говорят, что так.
Она секунду пристально смотрела на него, будто ожидая более убедительного подтверждения, затем обидчиво скривилась.
— Ганс, эта тварь сводит меня с ума. Ты знаешь эту вещь Форэ[6]— в ми–мажоре — так вот, там эта нота все длится и длится, хоть в запой пускайся. Меня этот ми–мажор пугает — он во что‑то чудовищное превращается.
— Может, поднять тональность?
— Ну–у — только следующая вещь, которую я возьму, наверное, будет в ней же. Нет, так ничего не выйдет. Кроме того, все это денег стоит, придется им отдать на несколько дней виолончель, а на чем я буду играть? На чем, я спрашиваю?