Однажды колесница королевы Мэб[1], выточенная из цельной жемчужины, влекомая по солнечному лучу четверкой жуков с агатовыми крыльями и золотым панцирем, скользнула в окошко мансарды. Там четверо тощих бородачей с отчаянием во взоре и вызовом в голосе проклинали судьбу.
К тому времени феи уже роздали свои дары смертным. Одним достались волшебные палочки: коснешься сейфа — и он уже полон; другим — чудесные колосья, чтобы лущить из них бриллианты; третьим — волшебные стекла, сквозь которые видны в недрах матери-земли золото и самоцветы, иных феи одарили густой шевелюрой, иных — голиафовой силой, кому достался молот — плющить раскаленное железо, кому — резвые ноги и крепкие пятки для бешеной скачки, когда вьются конские гривы и Бетер сечет лицо.
Эти четверо проклинали судьбу. Одному на роду была написана глина, другому — палитра, третьему — мелодия, четвертому — лазурь[2].
Королева Мэб прислушалась. Заговорил первый: — Что за мука — единоборство замысла и мрамора! Передо мной глыба, а при мне лишь резец. У тебя есть гармония, у тебя — свет, у тебя — вдохновение, а у меня лишь мечта — божественная, дивная Венера, сияющая снежной наготой под лазурным куполом. Косной материи я жажду дать форму, пластичность, линию — пусть потечет по жилам статуи прозрачная кровь богов. Я храню дух Эллады и люблю ее плоть — бегущую нимфу и фавна, простершего руки. О Фидий[3]! Властелин и полубог вечно прекрасного мира, под взглядом твоим красота сбрасывает роскошный хитон, являя белоснежное совершенство формы.
Ты ранишь мрамор, укрощая его, но перестук твоего молотка ритмичен, как стих; цикада, любимица солнца, скрытая молодыми виноградными лозами, славит тебя. Златокудрый бог, светоносный Аполлон, державно-величавая Минерва — они твои. Подобно магу, ты превращаешь камень в образ, слоновий бивень — в пиршественную чашу! Как нестерпимо ощущать свое ничтожество у подножия твоего величия! Где оно, достославное твое время? Больно жалят взгляды современников… Прекрасен идеал, открывшийся мне, но жалки мои силы. Беру резец — и чувствую отчаяние.
Заговорил другой:
— Сегодня же выброшу кисти. К чему радуга, к чему вся эта многоцветная палитра расцветшего поля, если в итоге картину не выставят в салоне? Чего я достигну? Я искушен во всех живописных школах, во всех манерах и направлениях. Я писал обнаженное тело Дианы и лик Мадонны. Поля и леса дарили мне свои цвета и оттенки; как влюбленный, я ловил каждое движение светотени, как любовник, ласкал ее отсветы. Я молился обнаженной натуре во всем ее великолепии — ее чистейшей белизне и легким теням. Нимбы святых и крылья херувимов трепетали под моей кистью. Но тяжким было пробуждение. Завтрашний день! Продать за гроши Клеопатру, чтобы купить кусок хлеба? А ведь я мог бы в горячке вдохновения начать великую картину, которую ношу в себе!
Заговорил третий:
— Давно прикована моя душа к миражу симфоний, и я боюсь очнуться. Мне внятна всякая гармония — от лиры Терпандра[4] до мощного взлета оркестровой фантазии Вагнера. В мои пророческие минуты мне брезжил идеал. Как древний философ, я слышал музыку сфер. Все шорохи созвучны, все отзвуки сливаются в аккорды. Весь мир способны вместить мои хроматические гаммы.
Трепетание луча рождает гимн, шелест леса будит в моей душе свой отклик, свою мелодию. И грохот бури, и птичье пение — все сливает воедино бесконечная каденция. А оглянешься вокруг — ни души, и только глумится толпа да маячит впереди решетка желтого дома.
Заговорил последний:
— Все мы испили ионической влаги. Но, как и прежде, недосягаем идеал, недосягаема лазурь. А нам суждено вечно стремиться к вечному свету! Есть у меня стихи, как мед, и есть, как золото, и есть, как раскаленное железо. Я амфора с небесным бальзамом — любовью. Голубке, звезде, ветке и ирису — всем открыто мое сердце и жилище. Взмахнув орлиными крыльями, я взмываю ввысь и усмиряю бури. Сближаются губы — и встречаются рифмы, звучит поцелуй — и рождается стих, и кто увидел мою душу — знает мою музу. Люблю эпос, люблю его доблестное дыхание, колышащее стяги над войском и плюмажи. Люблю лирическую песнь — дар божеству или любимой. Люблю эклоги, где дышат вербена и тмин, и божественный вол, увитый гирляндами роз. Бессмертно было бы произведение, которое я мог бы создать, но меня гнетет нищета и мучит голод.
* * *
И королева Мэб, приподнявшись в колеснице, выточенной из цельной жемчужины, взмахнула покрывалом, едва ощутимым, словно сотканным из дыхания снов — сладких снов, и жизнь сквозь него виделась в розовом свете. Всех четверых — тощих, отчаявшихся и дерзких — укрыла она покрывалом. И печаль покинула их, ибо в груди поселилась надежда, а в голове — веселое солнце и лукавый бесенок гордыни, который тешит бедных художников в минуту отчаяния.
И с тех пор в мансардах блаженных неудачников царят лазурные сны, и день грядущий мнится лучезарным, и смех гонит печали, и кружится шальная фарандола[5] перед белым Аполлоном, пестрым холстом, ветхой скрипкой и выцветшей рукописью.

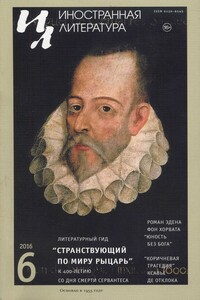




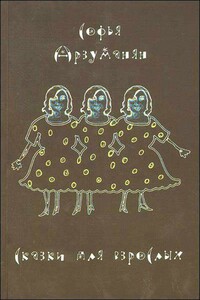
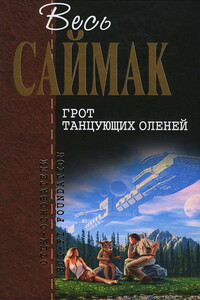
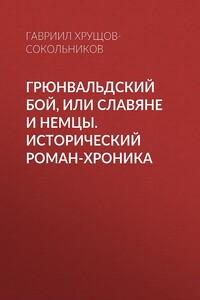

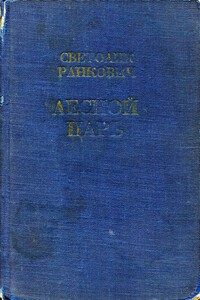
![Волынщики [современная орфография]](/storage/book-covers/9e/9e499da6d3f35af7b9eb2f5fff141343941aab39.jpg)