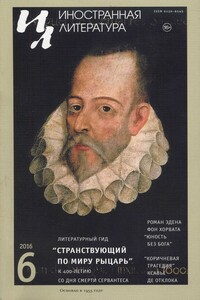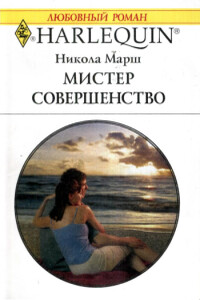Отца моего, знаменитого Джона Лина, члена Лондонского королевского психологического общества, знали в учёных кругах как автора работ о гипнозе и нашумевшего сочинения "Воспоминания об Олди". Не так давно отец мой скончался — царство ему небесное, — Джеймс Лин отхлебнул пива и продолжал: — Я знаю, мои тревоги покажутся вам смешными, вы сочтёте их пустыми странностями. Я не в обиде — что обижаться, когда вы не можете и подозревать… а ведь "есть многое на свете, друг Горацио…", как подметил великий Шекспир.
Порядком настрадался я из-за этих насмешек. Да, всё обстоит именно так. Я не могу спать без света, не могу оставаться один в доме, вздрагиваю при малейшем шорохе в придорожных кустах, боюсь летучих мышей и даже сов, никогда не хожу на кладбище, мне мучителен всякий разговор на похоронную тему — я почти теряю сознание…
Я испытываю неодолимый ужас — мне страшно даже вымолвить это слово — перед смертью. Ни за что я не войду в дом, где есть покойник, будь он мне даже лучший друг. Вы вслушайтесь, какое зловещее слово — "труп"…
Конечно, вы станете смеяться, да вы уже смеётесь — вольно вам! Но выслушайте мою историю. Я бежал в Аргентину из тюрьмы, где провёл пять лет, а упрятал меня туда отец — доктор Лин, может, конечно, и большой учёный, но и негодяй не меньший. Он дал заключение и отправил меня в сумасшедший дом, а заключение он дал потому, что боялся, боялся, как бы не открылось то, что он желал бы скрыть…
Вы видите — я не пьян. И в своём уме. Заключение отец дал вот почему… Слушайте… Я устал уже молчать об этом.
Высокий, светловолосый, нервный — и теперь его била частая дрожь — Джеймс Лин рассказывал нам свою историю в кафе. Кто не знает Джеймса Лина в Буэнос-Айресе? Человек он сдержанный, но по временам на него находит. Он преподаватель одного из лучших колледжей города и пользуется всеобщим уважением, желанный гость в обществе, хотя несколько молчалив. Не думаю — ведь я хорошо его знаю, — что в тот вечер этой историей он просто морочил нам голову. Вот его рассказ. Судите сами.
Я рано потерял мать, отец же вскоре отправил меня в оксфордский колледж. Отец никогда не был особенно ласков со мной — он навещал меня раз в год, хотя путь из Лондона в Оксфорд близкий. Так я и рос — душевно одинокий, без привязанностей, без радостей.
Я рано понял, что такое тоска. Меня уверяли, что я поразительно похож на мать. Думаю, ещё и поэтому доктор Лин почти никогда не глядел на меня. Но это так вспомнилось, к слову. Простите, что рассказ мой невнятен. Сам делаюсь не свой, когда говорю об этом. Постарайтесь понять. Так вот, я рос в душевном одиночестве, учился, и прежде всего — тоске, ограждённый ото всего чёрными стенами школы… Ещё и сейчас, случается, они мерещатся мне в кошмарных снах в полнолуние. Тоске я выучился. Помню, из моего окна видны были тополя и кипарисы — луна заливала их бледным, зловещим светом… Кому вздумалось посадить кладбищенские деревья — кипарисы — в школьном саду? А в глубине сада — изъеденные проказой времени изображения Термина, на которых обычно восседали совы, их разводил директор — мерзкий старый горбун… Зачем понадобились директору совы? До сих пор мне чудится в ночной тишине шорох их крыльев и скрежет клювов за трапезой, а в полночь, клянусь вам, я явственно слышал тихий голос: "Джеймс!" О, этот голос!
Вскоре после того, как мне исполнилось двадцать лет, я узнал о предстоящем визите отца. И обрадовался, потому что более всего на свете желал излить свою душу кому бы то ни было, пусть даже отцу.
Он был со мной любезней, чем прежде, и хотя ни разу не посмотрел мне в глаза и говорил строго, тон его был приветлив. Я сказал ему, что очень хотел бы вернуться в Лондон, что курс окончен, что, если я здесь останусь, умру с тоски… Голос его был по-прежнему приветлив:
- Я хотел забрать тебя, Джеймс, прямо сегодня. Директор сказал мне, что ты не очень здоров — не спишь, мало ешь. Чрезмерные занятия вредны, как всё чрезмерное. А кроме того, вот ещё что я хотел тебе сообщить: у меня есть свои причины забрать тебя. Человеку в моём возрасте нужен друг и помощник — и я нашёл его. Теперь у тебя есть мачеха, которая жаждет познакомиться с тобой как можно скорее. Сегодня и поедем.
Мачеха! Я вспомнил мать — светловолосая, бледная, такая ласковая… как она любила меня, как баловала! Отец, можно сказать, бросил её: дни и ночи он проводил у себя в лаборатории, а она угасала — несчастный, слабый цветок!.. Мачеха! Мне, стало быть, предстоит выносить тиранство новой жены доктора Лина, какого-нибудь, верно, синего чулка, учёной крысы, а может, и сущей ведьмы… Простите великодушно. Случается, я и сам не знаю, что говорю, или слишком ужхорошо знаю…
Ни слова я не ответил отцу, и мы отправились, как он и замыслил, на станцию, сели в поезд и поехали в Лондон.
Старинная дверь нашего дома вела на лестницу, где было темно, а лестница — на второй этаж, в жилые комнаты. Едва войдя, я был неприятно поражён: в доме не осталось никого из старых слуг.
Четыре мумии в чёрных обтрёпанных ливреях неловко, молча склонились перед нами. В гостиной всё изменилось — мебель была новая, строгого, холодного стиля. И только в глубине, как прежде, висел портрет моей матери кисти Данте Габриэля Россетти (1), завешенный креповым покрывалом.